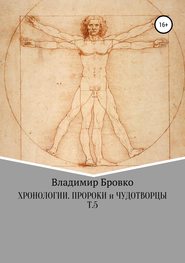
Полная версия:
Хронологии. Пророки и чудотворцы. Т.5
При исключительно благоприятных условиях события внешнего мира, путем весьма тонких и неуловимых влияний, могут непосредственно действовать на этот внутренний аппарат человеческого сознания и создавать в нем вещие образы.
То, что эти образы во многих случаях относятся к будущему, объясняется Шопенгауэром феноменальностью времени. Для вещи в себе, т. е. для воли, лежащей в основе всего индивидуального, нет ни прошедшего, ни будущего, а потому для нее всякое событие может быть одинаково познано как до, так и после совершения его, в области феноменов.
Влияние внешнего мира на реальную основу человеческого сознания совершается безвременно; лишь вступая в область чувств и бодрствующего интеллекта, это влияние выражается в формах времени и пространства.
Животный магнетизм, симпатическое лечение, второе зрение, духовидение и видения всякого рода – все это, по Шопенгауэру, родственные явления, ветви одного ствола, дающие верное и неопровержимое свидетельство о связи существ, основанной на порядке вещей совершенно другого рода, чем порядок природы. Этот последний зиждется на законах времени, пространства и причинности, тогда как первый есть порядок глубже лежащий, более первоначальный и непосредственный, а потому от него и не зависимый. Из новейших теорий чудесного интересна «философия мистики» дю Преля, примыкающая во многих пунктах к точке зрения Шопенгауэра.
Дю Прель различает в человеческой природе чувственного и трансцендентального субъекта. Первый подчинен законам чувственной природы, второй обладает способностью интуитивного созерцания вещей.
Оба эти субъекта или сознания находятся, по дю Прелю, в известные рода антагонизме. Трансцендентальное сознание при обыкновенных условиях совершенно заглушается чувственным, подобно тому как свет звезды погашается светом солнца.
Но как, несмотря на присутствие солнца, свет звезды все-таки реально существует, так точно существует в нас и трансцендентальное сознание и неприметно влияет на всю нашу жизнь. Его деятельность, при ослаблении чувственного сознания, может становиться отчетливее и интенсивнее.
Вся практическая мистика зиждется именно на этой деятельности трансцендентального субъекта.
Нельзя не признать, что вопрос о возможности чудесного сравнительно с другими философскими проблемами находится до настоящего времени в совершенно неразработанном состоянии. «Системные» философы касались его больше мимоходом и лишь в редких случаях делали предметом более или менее обстоятельного обсуждения. И если такие мыслители, как Шопенгауэр или Гартман, довольно подробно обсуждали этот вопрос с точки зрения своих систем, то они, во всяком случае, ставили проблему Ч. далеко не во всем ее объеме, а ограничивались лишь некоторыми видами чудесного, касающимися духовидения и явлений спиритизма.
С другой стороны, теории, развиваемые представителями оккультизма, спиритизма и других учений супранатуралистического характера, никогда не имели под собой достаточно твердой гносеологической и метафизической почвы и представляли, в общем, весьма неустойчивые построения, основанные на сбивчивых и до конца не продуманных понятиях. Между тем проблема Ч. не может получить философского разрешения независимо от исследования основных положений гносеологии и метафизики и необходимо предполагает то или иное систематически обоснованное миросозерцание.
Без такого миросозерцания как признание чудес, так и их отрицание является выражением чистой веры или только привычных и излюбленных мнений, а не разумного убеждения.
При философском обосновании понятия Ч. приходится считаться с тремя основными трудностями, обусловливающими все главные аргументы pro и contra.
Первым и главным камнем преткновения является понятие причинности, в наиболее установившемся и особенно характерном для позитивной философии смысле, т. е. в смысле необходимого следования явлений во времени.
При таком взгляде на причинность понятия законов природы и причинной связи оказываются вполне совпадающими в своем объеме или, иначе говоря, причинность является лишь общей формулой всех конкретных законосообразностей в явлениях природы.
С этой точки зрения положение: «нет явления без причины» равносильно утверждению, что возникновение всякого явления подчинено известному правилу или, что-то же, закону природы.
При этом под законами природы разумеются все самостоятельные, т. е. не сводимые друг на друга, закономерности, например, закон тяготения или закон соединения кислорода и водорода в воду.
Очевидно, что такое понятие причинности вполне исключает возможность чудес; ведь никто не станет считать чудом то, что совершается на основании одних только законов природы; в таком случае можно было бы видеть чудеса в сообщениях по телефону.
Вообще, по отношению к приведенному понятию причинности вопрос о Ч. находится в таком же точно положении, как вопрос о свободе воли; и поскольку признание свободы воли не находит в этом пункте действительно непреодолимого препятствия, постольку исчезает затруднение и для обоснования чудесного.
В действительности затруднение может оказаться совершенно фиктивным, если показать несостоятельность понятия причинности, как закономерного следования. А несостоятельность этого понятия, скорее всего, может быть обнаружена на явлениях внутреннего опыта.
В самом деле, никто никогда не доказал полной закономерности человеческого сознания. О сведении всех процессов сознания к законам природы говорилось и говорится очень много, но фактически это сведение оставалось всегда не более как pium desiderium механического миросозерцания.
Вообще разложение высших форм и процессов бытия на низшие и элементарные: явлений жизни – на законы химии и физики, а этих последних – на законы механики, столь категорически утверждаемое многими исследователями, никогда, в сущности, не доводилось до конца.
Представители этого воззрения обыкновенно ограничивались указанием обусловленности высших форм низшими, сведением некоторых свойств высшего порядка на соотношение элементарных сил и такую зависимость считали доказательством всеобщего господства элементарных сил – и относящихся к ним законов.
Между тем, из того, что произвольное поднятие руки зависит от определенного молекулярного строения и состояния нервных центров и мышечных волокон, никак не следует, что дело ограничивается только этой обусловленностью и что акт человеческой воли, как таковой, не играет здесь никакой роли, но лишь иллюзорно принимается за действующую причину.
Убеждение в абсолютном господстве элементарных закономерностей основано на том предположении, что реальными единицами мира можно признать только абсолютно элементарные сущности, обозначаемые понятиями атомов, центров сил и т. п. (независимо от того, понимать ли их материалистически, динамически, спиритуалистически или даже агностически).
Но это вознесение элементарного и простейшего бытия на степень абсолютной первоосновы мира есть в сущности чистая вера, нигде не находящая действительного подтверждения, и, напротив, обнаруживающая свою полную несостоятельность в актах высшего обнаружения воли.
Думать, что Сократ спокойно выпил чашу яда, а Дж. Бруно бестрепетно взошел на костер под влиянием элементарных сил своего организма – значит не представлять себе сущность того самоопределения человеческой личности, которое выразилось в этих актах.
Нельзя приписывать высшие проявления разумности и морального величия стихийным и полусознательным силам каких бы то ни было элементов.
Такие проявления постулируют признание единств высшего порядка, способных соединять в себе огромное разнообразие элементарного, делать оценку и выбор между различными стимулами и давать перевес идейному перед стихийным.
Мировоззрению, признающему действующими причинами только элементы мира и понимающему высшие формы лишь как совокупность таких элементов, может быть противопоставлена теория причинности, в которой под причиной разумеется всякое творческое начало, необходимое для появления следствия.
Сущность этой творческой связи причины и следствия заключается не в каком-нибудь правиле или законе следования, а в самой природе сменяющих друг друга явлений: причина есть то, что творит следствие из своего собственного бытия.
Следствие всегда заключает в себе свою причину целиком или отчасти. При таком способе понимания причинной связи является совершенно безразличным, относится ли такая причинная связь ко многим случаям и в силу этого имеет характер правила, или отличается полной индивидуальностью и имеет единственное исключительное осуществление в мировом процессе.
С такой точки зрения законы природы оказываются лишь частными видами причинной связи, далеко ее не исчерпывающими и относящимися только к простейшим сущностям мировой действительности, отличающимся крайней косностью и однообразием своих проявлений.
И наряду с ними необходимо признать высшие виды причинной связи, относящиеся к активным единствам сознательных и разумных существ. Этот последний вид причинности уже не может иметь характера законов или правил, так как относится к сущностям чрезвычайно индивидуализированным и жизнеподвижным.
Вторым существенным признаком понятия ЧУДА служит сверхъестественное.
Сверхъестественное можно усматривать как в проявлениях человека, так и в действиях высших или более могущественных существ. Сверхъестественны, например, предвидение будущего, непосредственное влияние (без посредства мускулов) человеческой воли на внешние предметы и вообще все виды так назыв. actio in distans.
Однако, и между этими явлениями в последнее время обнаруживается множество таких фактов, отнесение которых к сфере естественного или сверхъестественного должно быть признано спорным.
Таковы, например, явления гипнотизма, охотно относимые спиритами к области сверхъестественного, но позитивными исследователями признаваемые всецело основанными на тех или иных закономерностях психологии и физиологии.
Трудность определения сверхъестественного по отношению к человеческой природе, по-видимому, проще всего устранить, условившись называть сверхъестественными те предполагаемые способности и действия человека, которые ни в какой степени не присущи человеческой организации вообще, а составляют исключительную особенность отдельных индивидуумов.
При таком определении высшая степень художественного или научного творчества не подойдет под понятие сверхъестественного, так как та или иная малая степень этого творчества присуща всем людям и подлежит некоторому развитию.
Что же касается таких действий, как передвижение или изменение материальных предметов одними лишь актами воли, то отнесение их к области сверхъестественного, в случае признания их возможными, определяется тем обстоятельством, что обыкновенные люди абсолютно не обладают способностью к таким действиям.
Наибольшую резкость и отчетливость приобретает понятие чудесного, когда оно мыслится как действие более могущественных или высших сравнительно с человеком существ.
В метафизическом обосновании бытия этих существ и заключается 2-й наиболее спорный пункт в выведении понятия ЧУДА.
Однако, если философия до сих пор не открыла какого-либо бесспорного рационального метода для доказательства бытия Бога и вообще существ высшего порядка, то предположение о бытии таких существ может с полным правом претендовать на значение вполне правдоподобной философской гипотезы.
И если принять во внимание, что в построении этой гипотезы участвовали такие осторожные и испытанные в эмпирическом методе мыслители новейшей философии, как Лотце и Вундт, то во всяком случае придется признать в ней не простую фантазию ума, но наведение эмпирического характера.
Наконец, третий пункт разногласия касается возможности мыслить чудеса даже и при предположении бытия высших существ и их творческого проявления в мире.
Новейшая философия религии обнаруживает несомненную наклонность построить религиозное миросозерцание без помощи каких-либо супранатуралистических воззрений и даже устранив их, как совершенно побочный мифологический элемент.
Тенденция эта имеет свое обоснование главным образом в той мысли, что идее божественного миропорядка гораздо более соответствует абсолютная закономерность событий, чем предполагаемые понятием Ч. произвольные вторжения в естественный ход мира, нарушающие законы природы.
Религия имеет дело главным образом с нравственными идеалами, осуществление которых совершенно не зависит от того или иного нарушения в закономерном ходе природы.
Пфлейдерер утверждает, что признание деятельности Бога не совпадающей с законами природы заставляло бы нас мыслить Бога ограниченным в своей воле внешней ему природой и действующим в мире наравне с другими конечными причинами, что отнюдь не соответствует понятию Бога, как абсолютного и ничем не ограниченного существа.
Однако, и с этой точки зрения обоснование чудесного является далеко не безнадежным. Прежде всего необходимо установить, что понятие о Ч., как о чем-то нарушающем законы природы и вносящем хаос в мировой порядок, глубоко ошибочно.
О нарушении законов природы можно было бы говорить, если бы факт Ч. совершенно уничтожал существование того или иного закона, – если бы, например, при посредстве Ч. закон соединения кислорода и водорода в воду потерял свою силу при всех химических процессах или от чудесного поднятия человеческого тела на воздух совершенно уничтожился бы закон тяготения.
Но ничего подобного из признания чудесных явлений не вытекает: в Ч. мыслится лишь преодоление естественных сил и законов в конкретных, единичных случаях, а вовсе не упразднение их в целом мире.
Таким образом, предполагая Ч. совершающимся по воле Бога, мы вовсе не должны видеть в Боге нарушителя законов мироздания вообще, но лишь источник совершенно своеобразного причинного воздействия, преодолевающего силу и природу конечных и элементарных причин.
Значение законов природы для этих элементарных причин, в сущности, ни на минуту не прекращается, подобно тому как закон тяготения не теряет своей силы по отношению к железной гире в тот момент, когда мы поднимаем ее над поверхностью земли.
Что касается того мнения, будто бы абсолютность Бога не совместима с пониманием природы как чего-то внешнего для его воли, на что он мог бы воздействовать подобно всякой конечной причине, то оно представляется весьма спорным: абсолютность вовсе не безусловно исключает всякое внеположение, и абсолютность Бога нисколько не обязательно мыслить, как принадлежность всех без исключения элементов мира к Его природе и личности.
Абсолютность Бога может пониматься лишь в том смысле, что в Нем заключается абсолютная мощь для преодоления всех элементарных сил мира и абсолютный идейный смысл, сообразно которому направляется мировой процесс.
Напротив, признание внешних и даже враждебных Богу сил в мире гораздо больше соответствует возвышенному характеру идеи Бога, чем предположение о том, что все сущее входит в природу Бога. Зло, несомненно существующее в мире, только тогда не противоречит идее Бога, когда оно мыслится как нечто внешнее по отношению к Богу.
Проблема зла получает единственно возможное разрешение лишь с точки зрения теистического миропонимания, отстаивающего различие Бога и природы.
Наконец, устранение чудесного, основанное на исключительно нравственном истолковании религиозных идей, предполагает ложное понимание религии. Религия есть целое мировоззрение, далеко не исчерпываемое моральной системой.
Исходным пунктом этого мировоззрения является не мораль, а чисто онтологические идеи о сущности мира и об отношении его к Богу.
Мораль представляет не начало, а заключительную часть или конечный вывод религиозного мировоззрения. Но и помимо этого, при более широком понимании морального и имморального, добра и зла, идеи супранатурализма получают значение необходимых звеньев религиозного миросозерцания.
В самом деле, известная нам эмпирическая действительность вполне характеризуется с точки зрения всех высших религий евангельским изречением: «весь мир во зле лежит».
И это зло мира выражается не в одной только нравственной слабости человечества, но также в ничтожности и ограниченности всей человеческой природы, в ее бессилии перед болезнью и смертью.
Но если философия теми или иными путями приходит к религиозному миросозерцанию, то ее Бог, как и Бог религии, может быть только Богом живых существ, а не мертвецов. Однако вечная жизнь есть по существу своему идея супранатуралистическая. Все «натуральное» содержит в себе зачатки гниения и разложения.
В силах человека усовершенствовать себя нравственно, но освободиться от своего смертного тела и создать какие-либо новые вечные формы жизненных проявлений человек не в состоянии.
Для этого нужно коренное изменение того миропорядка, в котором смерти принадлежит последнее слово. Объявляя закономерное торжество смерти Божественным миропорядком, представители религиозных пантеизма и натурализма едва ли особенно возвышают нравственное величие идеи Бога.
Нравственный пафос составляет бесспорно неотъемлемый и весьма ценный элемент всякого истинного религиозного настроения, но он вовсе не требует примирения с чисто физическим злом окружающей нас стихийной природы.
Завершением теории чудесного должно быть доказательство того, что этот пафос обуславливает коренное обновление всей человеческой природы, – обновление, знаменующее собой основное Ч. христианства, а именно воскресение Христа и будущее соединение с Ним всех тех, кто жил в духе Его учения.»
Данный очерк принадлежит талантливому, но ныне совершенно забытому в Росиии российскому писатели и философу Сергей Алексеевич Алексеев (известному под псевдоминмом С.А. Аскольдов)
И вот тут у меня к вам уважаемый читаль есть и прямой вопрос:
«Вы что-нибудь поняли из того что до вас пытался в самой популярной философской форме лонести професор Аскольдов?»
И я думаю, что нет.
Поскольку предмет очень труден к пониманию неподготовленного к этому читателя. И в таком случае я настоятельно рекомендую перечитать этот очерк -2-3 раза чтотбы хотя бы запомнить основные моментыпроцентов 20% так скать информации о том, что такое «ЧУДО» в научном понимание этого явления (термина). Этого будет вполне достаточно чтобы произвести впечатление на люого вашего собеседника если у вас с ним возникнет осуждение вопроса о «ЧУДЕСАХ»!
Вторым же важным вопросм в нашем исследовании идет следующий вопрос:
Кто такие ЧУДОТВОРЦЫ?
Ответ на этот вопрос можно получить если вначале разобратся с такитм понятием как «Лики святости» в христианской религии.
А лики святости это различные категории, на которые к примеру, в православии принято разделять святых при их канонизации и почитании в зависимости от трудов их святой земной жизни.
Православные лики святости
Наименование лика Сокращение Критерии включения
1.Апостолы Ученики Иисуса Христа. Различают двенадцать апостолов и апостолов от семидесяти.
2.Бессребреники Христиане, прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей веры. Зачастую к ним относят святых, обладавших даром врачевания и не бравших платы за свой труд.
3.Благоверные Монархи и удельные князья – за свою благочестивую жизнь, дела по укреплению церкви и веры.
4.Блаженные Синонимичное именование юродивых на Руси, а также устоявшееся именование некоторых святых, не юродивых (св. блж. Иероним Стридонский, Августин Блаженный, Блаженная Матрона, блаженный Никита).
5.Великомученики Мученики за веру, перенёсшие особо тяжкие и продолжительные мучения.
6.Исповедники Лица, открыто исповедовавшие свою веру во время гонений на христиан. В отличие от мучеников, исповедниками называют тех, кто после перенесённых мучений оставался в живых.
7.Мученики Люди, принявшие насильственную смерть за свою веру.
8.Праведные Миряне и священнослужители из белого духовенства, почитаемые за праведную жизнь.
9.Ветхозаветные патриархи (Праотцы), почитаемые как образцы благочестия. Родители и супруг Богородицы также относятся к праотцам, но именуются Богоотцами (к богоотцам относят и царя Давида).
10.Преподобномученики Мученики за веру из числа монахов.
11.Преподобные Монашествующие, почитаемые за подвижническую жизнь.
12.Пророки Лица, упомянутые в Библии, возвещавшие народу волю Бога и проповедовавшие на территории древних Израиля и Иудеи. Почитают 18 ветхозаветных пророков и одного новозаветного – Иоанна Крестителя, который является последним святым, почитаемым в данном лике святости.
13.Равноапостольные Лица, прославившиеся проповедью Евангелия и обращением народов в христианство.
14.Святители Архиереи, прославившиеся праведной жизнью и пастырской деятельностью.
15.Священномученики. Мученики за веру из числа священнослужителей.
16.Столпники святые подвижники, подвизавшиеся на столпе – башне или высокой площадке скалы, недоступной для посторонних.
17.Страстотерпцы Лица, принявшие мученическую кончину не за веру, возможно даже от единоверцев (в силу злобы, коварства, заговора). Почитается особый характер их подвига – беззлобие и непротивление врагам.
18.Чудотворцы Святые, прославившиеся даром чудотворения и заступничества в ответ на молитвы к ним.
19.Юродивые Подвижники, добровольно принявшие на себя образ безумных. Для таких лиц характерен аскетический образ жизни, обличение (в том числе публичное) людских пороков.
И кк сам видит читатель если представить «лики святости» как своегно рода «Табель о рангах» среди христианских святых, то ЧУДОТВОРЦЫ занимаю одно из низших положений! Ниже них только «Юродивые»!
Само же определение «Чудотворец» можно дать в двух его видах.
Общеистороическое и с точки зрения христианских богословов.
Согласно первому «Чудотво́рец (буквально: тот, кто производит чудеса, греч. θαυματουργός; тауматург[1]) – эпитет святых, особенно прославившихся приписываемым им даром чудотворения и заступничества в ответ на молитву к ним.
Чудотворцы не являются особым разрядом святых, поскольку в принципе все святые обладают даром чудотворения, а засвидетельствованные чудеса являются основным условием канонизации. В разных святцах и месяцесловах наименование чудотворца приписывается разным святым. Среди чудотворцев особенно почитается святой Николай Угодник.
Однако вот в самой Библии чудотворцы упоминаются всего два раза!
Первый раз – в ветхозаветной Третьей Книге Маккавейской и второй раз – в Первом Послании к Коринфянам святого Апостола Павла.
Богословская тракктовка понятия «Чудотворец» основывается на определении содержашемся в «Кратком словаре агиографических терминов» В.М. Живова
«Чудотворец (гр. [греч] θαυματουργος), эпитет ряда святых, особо прославившихся даром чудотворения, заступников, к которым прибегают в надежде на чудотворное исцеление и т.д.
Чудотворцы не являются особым разрядом святых, поскольку в принципе все святые обладают даром чудотворения, а засвидетельствованные чудеса являются основным условием канонизации.
В разных святцах и месяцесловах наименование чудотворца приписывается разным святым. Среди почитаемых русской церковью чудотворцев можно отметить святителя МирЛикийских Николая, московских святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, преподобного Антония Римлянина, Сергия и Германа Валаамских, Серафима Саровского и др»
Теперь, когда вы уважаемый читатель уже твердо и главное правильно и на всю жизнь для себя уяснили, что такое «ЧУДО» и кто такие «Чудотворцы» мы можем наконец и перейти к волпросам связаными с теми ПРОГНОЗАМИ БУДУЩЕГО, что якобы в свое время высказывали жти самые христианские ЧУДОТВОРЦЫ.
И мне из таких вот ПРОРОКОВ-ЧУДОТВОРЦЕВ при работе над книгой удалось собрать особую группу, членов которой тоже условно можно отнести к подвиду «МАЛЫХ ПРОРОКОВ».

