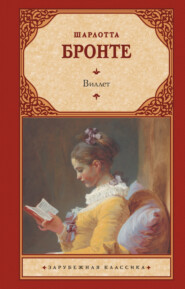скачать книгу бесплатно
– В таком случае продолжайте обманывать месье Исидора. Вполне логично предположить, что он однажды захочет получить что-то взамен…
– Не получит! – отрезала Джиневра. – Достаточно и того, что он получает удовольствие, созерцая меня в этих украшениях, ведь он всего лишь буржуа.
Эти слова, наполненные тупой заносчивостью и бесчувственным высокомерием, моментально излечили меня от временной слабости, заставившей смягчить и отношение, и тон, а она продолжала:
– Мое дело – наслаждаться молодостью, а не думать о том, чтобы связать себя обещанием или клятвой с тем или иным мужчиной. Увидев Исидора, я поверила, что он поможет мне в этом, что будет рад принять просто как хорошенькую девушку, что мы с ним будем встречаться, расставаться и порхать, как две счастливые бабочки. И вот пожалуйста! Порой он мрачен, как судья, полон чувств и мыслей. Фу! Les penseurs, les hommes profonds et passionnеs ne sont pas ? mon go?t[49 - Мыслители, люди глубокие и страстные не в моем вкусе (фр.).]. Полковник Альфред де Амаль подходит мне куда лучше. Va pour les beaux fats et les jolis fripons![50 - Понимает милые шутки и легкое кокетство! (фр.)] Vive les joies et les plaisirs! А bas les grandes passions et les sеv?res vertus![51 - Да здравствуют радости удовольствия! Долой великие страсти и строгие добродетели! (фр.)]
Она взглянула, ожидая ответа на свою тираду, но я молчала, поэтому продолжила:
– J’aime mon bon сolonel. Je n’aime rai jamais son rival. Je ne serai jamais femme de bourgeois, moi![52 - Люблю своего прекрасного полковника. Никогда не полюблю его соперника. Никогда не стану женой буржуа! (фр.)]
После этого я потребовала, чтобы она немедленно избавила меня от своего присутствия, и мисс Фэншо со смехом удалилась.
Глава X
Доктор Джон
Мадам Бек обладала необыкновенно стойким характером и терпеливо относилась ко всему миру, не испытывая нежности ни к одной из его составляющих. Даже собственные дети не выводили ее из неизменного состояния стоического спокойствия. Она заботилась о семье, неустанно охраняла ее интересы и физическое благополучие, но никогда не испытывала желания посадить малышек на колени, прижаться губами к нежным розовым щечкам, заключить в сердечные объятия, осыпать искренними ласками, одарить словами любви.
Иногда я видела, как она сидит в саду, издали наблюдая за своими пчелками, когда те прогуливаются по аллее в сопровождении Тринет, новой бонны, и всем своим обликом выражает заботу и благоразумие. Знаю, что она часто с тревогой задумывалась о том, что называла «leur avenir»[53 - Их будущее (фр.).], однако если младшая из девочек – крохотная, слабая, но обворожительная – замечала мать, оставляла няню и топала по аллее, чтобы со смехом и радостью обнять ее колени, мадам Бек невозмутимо вытягивала руку, чтобы предотвратить нежелательное прикосновение, и холодно заявляла:
– Prends garde, mon enfant![54 - Осторожнее, дитя мое! (фр.)]
Терпеливо позволив малышке несколько мгновений постоять рядом, она без тени улыбки, намека на поцелуй и ласкового слова вставала и отводила дочку обратно к бонне.
Обращение со старшей девочкой было столь же характерным, хотя и в ином ключе. Надо признаться, та росла крайне непослушной.
«Quelle peste que cette Dеsirеe! Quel poison que cet enfant l?!»[55 - Как надоедлива эта Дезире! Как ядовит это ребенок! (фр.)] Подобные выражения звучали в адрес девочки повсюду – как на кухне, так и в классе. Среди прочих талантов она могла похвастать и редким мастерством в искусстве провокации: случалось, доводила няню и слуг едва ли не до бешенства. Она забиралась в их каморки, открывала ящики и коробки, коварно рвала чепцы и пачкала шали; улучив возможность тайком проникнуть в столовую и подкрасться к буфету, била фарфоровую и стеклянную посуду; умудрившись забраться в кладовку, портила запасы, пила сладкое вино, открывала банки и бутылки – и все ради того, чтобы бросить тень подозрения на повариху и служанку. Когда мадам становилась свидетельницей коварства дочери или получала жалобы, то лишь с несравненным спокойствием замечала: «Dеsirеe a besoin d’une surveillance toute particuli?re»[56 - Дезире нуждается в особом надзоре (фр.).].
Следует отметить, что она предпочитала хранить многообещающую оливковую ветвь при себе: ни разу я не видела, чтобы честно указала дочери на проступки, объяснила зло коварных действий и продемонстрировала результаты, которые должны были бы последовать. Исправить положение был призван особый надзор. Разумеется, ничего не получилось. Оказавшись в некотором отдалении от слуг, Дезире начала дразнить и изводить мать: крала и прятала все, что находила на столах – рабочем и туалетном. Мадам Бек все замечала, однако предпочитала делать вид, что ничего не видит и не знает: ей недоставало объективности, чтобы открыто противостоять порокам собственного ребенка. Когда исчезал какой-то ценный предмет, она пыталась все представить так, будто Дезире случайно взяла его во время игры, и предлагала вернуть, однако та не поддавалась на обман и утверждала, что не брала брошь, кольцо или ножницы. Поддерживая эту ложь, матушка невозмутимо изображала доверие, но в то же время следила за дочерью до тех пор, пока не обнаруживала тайник: углубление в садовой стене, темный уголок на чердаке или в сарае. Достигнув успеха, мадам отправляла Дезире на прогулку с бонной, а сама в это время беспрепятственно забирала пропажу. Дезире, будучи истинной дочерью своей хитроумной матушки, никогда ни словом, ни взглядом не выдавала горечи утраты и даже никак не показывала, что ее заметила.
Говорили, что средняя дочь мадам, Фифин, унаследовала характер своего умершего отца. Мать передала ей здоровую конституцию, голубые глаза и румянец, однако не моральную сущность. Девочка обладала честной, жизнерадостной душой и страстным, горячим, неугомонным темпераментом, часто приводившим к неприятностям и даже несчастным случаям. Однажды бойкое дитя умудрилось пролететь по каменным ступеням крутой лестницы сверху донизу. Услышав шум (она всегда мгновенно реагировала на любой шум), мадам вышла из столовой, подняла девочку и невозмутимо произнесла:
– Cet enfant a un os cassе[57 - У ребенка сломана кость (фр.).].
Поначалу мы надеялись, что это не так, однако она оказалась права: маленькая пухлая ручка безвольно висела.
– Пусть мисс Сноу возьмет ее, – распорядилась мадам Бек, – et qu’on aille tout de suite chercher un fiacre[58 - И пусть кто-нибудь немедленно найдет фиакр (фр.).].
Как только экипаж прибыл, она поспешно, но с восхитительным хладнокровием и самообладанием отправилась за доктором. Семейного врача дома она не застала и продолжала поиски до тех пор, пока не нашла и не привезла достойную замену. Я же тем временем успела разрезать рукав, раздеть Фифин и уложить в постель.
Никто из нас, собравшись в маленькой, жарко натопленной комнате, не посмотрел на доктора внимательно, когда тот вошел в детскую. Я, по крайней мере, пыталась успокоить девочку, чьи крики (она обладала хорошими легкими) оглушали. Как только к кровати приблизился незнакомый человек и попытался ее приподнять, Фифин на ломаном английском завопила еще отчаяннее:
– Оставьте меня! Не желаю вас! Желаю доктора Пиллюля!
– Доктор Пиллюль – мой добрый друг, – спокойно произнес доктор на безукоризненном английском языке. – Но он сейчас уехал к другому больному, в трех лигах отсюда, поэтому я вместо него. Как только мы немного успокоимся, можно будет приступить к делу и привести пострадавшую ручку в полный порядок.
После этого доктор попросил принести стакан очень сладкого чая, дал несколько ложек девочке (Фифин всегда можно было завоевать с помощью чего-нибудь вкусного), пообещал добавки после завершения процедуры и быстро приступил к работе. Когда ему потребовалась помощь, доктор обратился к поварихе – крепкой массивной женщине, – однако та немедленно исчезла вместе с привратницей и няней, так что пришлось включиться в процесс мне. Было очень страшно прикасаться к маленькой изувеченной ручке, но поскольку альтернативы не было, я тут же подставила ладонь. Однако мадам Бек меня опередила: ее рука оставалась твердой, в то время как моя дрожала.
– ?a vaudra mieux[59 - Это подойдет лучше (фр.).], – заметил доктор и с пренебрежением от меня отвернулся.
В своем выборе он проявил мудрость. Мой стоицизм был притворным, сила духа – вынужденной, в то время как мадам Бек действовала естественно, без напряжения и страха.
– Merci, madame: tr?s bien, fort bien![60 - Спасибо, мадам: очень хорошо, прекрасно! (фр.)] – похвалил доктор, закончив работу. – Voil? un sang-froid bien opprtun, et qui vaut mille еlans de sensibilitе dеplacеe[61 - Вот надлежащее хладнокровие, в тысячу раз ценнее неуместной чувствительности (фр.).].
Он остался доволен ее твердостью, а она – заслуженным комплиментом. Скорее всего облик доктора, голос, поведение, манеры произвели благоприятное впечатление. Действительно, когда принесли лампу – ибо уже наступил вечер и в комнате стемнело – и удалось посмотреть на него внимательно, то сразу стало ясно, что, если мадам Бек сохранила женственность, иначе и быть не могло. Этот молодой доктор обладал необычной внешностью. В тесной комнате, среди женщин фламандского типа он выглядел впечатляюще высоким, а гордый профиль отличался четкостью, красотой и выразительностью. Возможно, взгляд переходил с одного лица на другое слишком живо, слишком быстро и слишком часто, однако глаза имели приятное выражение, как и губы. Греческий подбородок с небольшой ямочкой выглядел сильным и совершенным. Что касается улыбки, то в спешке трудно было подобрать подходящий эпитет: что-то в ней радовало, а что-то заставляло мгновенно вспомнить свои недостатки и слабости – все, что достойно осмеяния. И все же эта двойственная улыбка понравилась Фифин, а ее обладатель показался добрым. Несмотря на то что доктор причинил ей боль, девочка с готовностью вытянула здоровую руку, чтобы дружески попрощаться с ним и пожелать хорошего вечера. Он же бережно пожал детскую ладошку и вместе с мадам Бек отправился вниз. Она была необыкновенно возбуждена и многословна, а он молча, с добродушной снисходительностью слушал, сбитый с толку этим откровенным кокетством.
Я заметила, что хотя доктор и говорил по-французски очень хорошо, все же по-английски изъяснялся значительно свободнее, к тому же обладал английским цветом лица, английскими глазами и фигурой. Заметила и еще кое-что: когда он направился к двери и на миг взглянул в мою сторону – хотя продолжал говорить с мадам, – мутное воспоминание, зародившееся при первом звуке его голоса, тотчас прояснилось и оформилось. Это был тот самый джентльмен, который помог мне с саквояжем и благодаря которому я оказалась здесь. Узнала я и его походку, когда он шел к выходу по длинному вестибюлю: за этими твердыми ровными шагами я спешила под проливным дождем по темному парку.
Логично было предположить, что первый визит молодого хирурга на рю Фоссет станет последним: возвращение уважаемого доктора Пиллюля ожидалось уже на следующий день, так что временному заместителю незачем было являться вновь, – однако судьба распорядилась иначе.
Доктор Пиллюль навещал старого ипохондрика в древнем университетском городе Букен-Муаси, но, поскольку тому требовалось сменить не только обстановку, но и климат, был вынужден сопровождать пациента, что заняло нескольких недель. Таким образом, продолжить лечение ребенка на рю Фоссет пришлось новому доктору.
Я часто его видела, поскольку мадам не доверяла маленькую пациентку заботам Тринет и требовала моего присутствия в детской значительную часть времени. Думаю, доктор был очень умелым: благодаря его заботам Фифин быстро поправлялась, но даже это не давало ему возможности оставить пациентку. Судьба и мадам Бек действовали заодно, распорядившись, чтобы доктор ближе познакомился с вестибюлем, приватной лестницей и верхними комнатами особняка.
Не успела Фифин выпорхнуть из его рук, как Дезире неожиданно почувствовала себя плохо. Одержимая бесами девочка обладала редким даром притворства. Привлеченная соблазнами внимания и снисходительности, она решила, что болезнь полностью соответствует ее вкусам, и улеглась в постель. Юная актриса играла хорошо, а мадам Бек еще лучше: ясно понимая суть дела, она держалась с поразительно естественной серьезностью и озабоченностью.
Куда больше меня удивило, что и доктор Джон (именно так молодой англичанин научил Фифин его называть, и все мы быстро привыкли к этому имени) молча согласился разделить тактику мадам принять участие в ее маневрах. Да, он действительно пережил момент комического сомнения, несколько раз быстро перевел взгляд с ребенка на мать, погрузился в недолгое размышление, но в конце концов любезно исполнил отведенную ему роль. Дезире ела с отменным аппетитом, день и ночь скакала в кровати, возводила палатки из простыней и одеяла, по-турецки восседала среди подушек и подушечек, но любимым развлечением было швыряние туфель в бонну и гримасничанье с сестрами. Короче говоря, все в ней поражало отменным здоровьем и необузданной энергией. Успокаивалась хулиганка исключительно во время ежедневного визита матушки и доктора. Я знала, что мадам была рада любой ценой удержать дочь в постели, чтобы избавиться от неприятностей и свести к минимуму наносимый ею ущерб, но каким образом доктор Джон не уставал от притворства?
Изо дня в день под вымышленным предлогом он являлся с неизменной пунктуальностью. Мадам встречала его со столь же неизменной услужливостью, столь же ослепительной любезностью и столь же восхитительно сфальсифицированной тревогой за ребенка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные лекарства и проницательно, с тонким пониманием смотрел на мать. Мадам Бек принимала насмешливые взгляды без возражений и обид – для этого ей вполне хватало здравого смысла. Хоть молодой доктор и казался чересчур мягким, презирать его было невозможно. Сговорчивость явно не служила цели заслужить расположение и благодарность хозяйки дома. Он высоко ценил работу в пансионате и, таким вот странным образом продляя пребывание на рю Фоссет, держался независимо и почти небрежно, хотя часто выглядел задумчивым и погруженным в себя.
Хоть тайна его поведения меня и не касалась, равно как и ее природа, однако обстоятельства заставляли смотреть, слушать и делать выводы. Доктор позволял за собой наблюдать, обращая на меня ровно столько внимания и придавая моему присутствию столько значения, сколько обычно ожидает особа моей внешности: иными словами, не больше, чем замечают привычные предметы мебели, стулья работы заурядного мастера и ковры с неброским узором. Часто в ожидании мадам он задумывался, улыбался, смотрел или слушал, как мы это делаем, когда рядом никого нет. Я же тем временем могла беспрепятственно размышлять о его внешности и манерах, пытаясь разгадать значение особого интереса и необычной привязанности – в соединении с сомнением, странностью и необъяснимым подчинением неведомому, но властному колдовству. Что притягивало его к этому монастырю, спрятанному в плотно застроенном сердце столицы? Кажется, доктор Джон решил, что у меня нет глаз, ушей, ума…
Все бы так и оставалось, если бы однажды, когда он сидел на солнце, а я любовалось цветом его волос, бакенбард и здоровым румянцем, яркий свет не выявил красоту с почти угрожающей силой. Помню, что мысленно сравнила сияющую голову с «золотым образом» фараона Навуходоносора. Внезапно внимание мое властно привлекла новая идея. По сей день не представляю, как долго и с каким выражением я на него смотрела: удивление и мгновенная убежденность заставили забыться. В себя я пришла, лишь заметив, что внимание его ожило и поймало мое неподвижное отражение в маленьком овальном зеркале, прикрепленном к стене оконной ниши. С помощью этого нехитрого устройства мадам Бек шпионила за гуляющими в саду обитательницами дома. Несмотря на веселый, сангвинический темперамент, доктор обладал долей нервной чувствительности, приводившей в замешательство под прямым пытливым взглядом. Немало меня удивив, он повернулся и произнес хоть и вежливо, но в то же время сухо и раздраженно, даже с упреком:
– Мадемуазель меня не щадит. Я не настолько самоуверен, чтобы вообразить, что ее внимание привлечено моими достоинствами. Наверняка присутствует некий недостаток. Можно ли спросить, какой именно?
Как, должно быть, предположил читатель, я пришла в замешательство, но вовсе не от непоправимого смущения. Понятно, что упрек был вызван не опрометчивым проявлением восхищения и не предосудительным любопытством. Ничего не стоило тут же объясниться, однако я этого не сделала, а промолчала, не имея привычки разговаривать с этим человеком. Позволив, таким образом, думать все, что угодно, и в чем угодно меня обвинять, я снова взялась за оставленную работу и не подняла головы до его ухода. Существует извращенное состояние ума, при котором неправильное понимание не раздражает, а, напротив, успокаивает. Там, где нам не дано быть верно понятыми, полное отсутствие внимания доставляет удовольствие. Разве случайно принятый за грабителя честный человек не испытывает скорее интерес, чем обиду и раздражение?
Глава XI
Комната привратницы
Стояло лето, было очень жарко. Жоржетта, младшая дочь мадам Бек, подхватила лихорадку. Фифин и внезапно выздоровевшая Дезире были срочно отправлены в деревню, к бабушке, чтобы не заразились. Теперь потребовалась настоящая медицинская помощь. Игнорируя возвращение доктора Пиллюля, который вот уже неделю как был дома, мадам Бек уговорила его английского конкурента продолжить визиты. Некоторые из пансионерок жаловались на головную боль, да и другими симптомами также слегка разделяли болезнь Жоржетты. Я подумала, что теперь-то доктор Пиллюль наверняка вернется к исполнению обязанностей: благоразумная директриса вряд ли осмелится пригласить к ученицам такого молодого мужчину как доктор Джон, однако выяснилось, что бесстрашная жажда приключений возобладала над благоразумием. Она представила доктора Джона школьному отделению пансионата, после чего поручила его заботам и гордую красавицу Бланш де Мелси, и ее подругу – тщеславную кокетку Анжелику. Как мне показалось, доктор Джон проявил некоторое удовлетворение этим знаком доверия, и если сдержанность манер могла оправдать поступок мадам, то он был в полной мере оправдан. Однако здесь, в стране монастырей и исповедален, его появление в pensionat de demoiselles[62 - Пансионате для барышень (фр.).] не могло остаться безнаказанным. Школа сплетничала, кухня шепталась, город подхватил слухи, родители писали гневные письма и приезжали, чтобы выразить протест. Если бы мадам Бек проявила слабость, то немедленно пропала бы: соперничающие заведения были готовы лицемерно одобрить этот ошибочный шаг – если считать его ошибочным – и тут же ее погубить, – но она осталась тверда. Когда я наблюдала за ее уверенным, компетентным поведением, искусным управлением, выдержкой и твердостью, сердце мое аплодировало этому маленькому иезуиту и кричало «браво!».
Встревоженных родителей она встречала с добродушным, легким изяществом. Никто не мог сравниться с ней то ли в обладании, то ли в изображении некой rondeur et franchise de bonne femme[63 - Прямоты и откровенности доброй женщины (фр.).], которая в ряде случаев немедленно достигала полного успеха там, где не помогли бы ни суровая важность, ни серьезное рассуждение.
«Ce pauvre Docteur Jean! Ce cher jeune homme! Le meilleur crеature du monde!»[64 - Бедный доктор Жан! Такой милый молодой человек! Лучшее в мире существо! (фр.)] – восклицала мадам, усмехаясь и весело потирая полные маленькие ладошки, а потом объясняла, что доверяет ему даже собственных дочерей, которые обожают его так, что впадают в истерику, когда им предлагают другого доктора. У нее самой нет никаких сомнений, и такого же спокойствия ждет она от других. Au reste[65 - Впрочем (фр.).], это всего лишь самое временное из всех возможных средств. Бланш и Анжелика пожаловались на головную боль; доктор Джон выписал рецепт. Voil? toute![66 - Вот и все! (фр.)]
Таким образом мадам Бек сумела успокоить родителей, а Бланш и Анжелика избавили ее от дальнейших волнений, дуэтом во всеуслышание воспевая достоинства доктора Джона. Другие ученицы вторили им, заявляя, что, если заболеют, будут лечиться только у него и ни у кого другого. Мадам смеялась. Родители радовались. Должно быть, жители Лабаскура обладают огромным чадолюбием: потворство капризам отпрысков развито в них до невероятных размеров, а их воля стала для большинства семей законом. Как следствие мадам Бек заслужила репутацию по-матерински доброй начальницы и вышла из противостояния победительницей: в городе стали ценить еще выше и ее саму, и пансионат.
До сих пор до конца не понимаю, с какой целью она так рисковала собственными интересами ради доктора Джона. Конечно, сплетни мне хорошо известны: все вокруг говорили, что она намерена выйти за него замуж. Разница в возрасте никого не смущала: рано или поздно это должно было произойти.
Следует признать, что события не опровергали столь смелое предположение. Мадам явно старалась продлить присутствие молодого привлекательного доктора в своем заведении, совершенно позабыв о бывшем протеже Пиллюле. Она неизменно лично присутствовала при визитах доктора Джона, причем всякий раз держалась жизнерадостно, игриво и благодушно. Более того, теперь мадам одевалась особенно тщательно: утренняя небрежность – ночной чепец, халат и шаль – была забыта. Ранние визиты доктора Джона неизменно заставали ее во всеоружии: с аккуратно уложенными волосами, в шелковом платье и элегантных ботиночках с кружевной отделкой вместо домашних тапочек. Молодой доктор лицезрел настоящую светскую даму, к тому же свежую, как утренний цветок. И все же не думаю, что намерения ее простирались дальше стремления доказать привлекательному мужчине, что она вовсе не дурнушка, махнувшая на себя рукой. Без красоты лица и элегантности фигуры она тем не менее не выглядела отталкивающе и без молодости с ее веселой грацией казалась жизнерадостной. Она не вызывала тоски при взгляде на нее: никогда не казалась занудной, вялой, бесцветной или скучной. Всегда яркие каштановые волосы, спокойные голубые глаза, сияющие здоровым румянцем щеки доставляли каждому умеренное, но неизменное удовольствие.
Действительно ли она лелеяла мечту выйти за доктора Джона, привести в свой со вкусом обставленный дом, разделить с ним сбережения, достигавшие, по слухам, значительной суммы, и до конца жизни обеспечить ему достойное существование? Подозревал ли об этом сам доктор Джон? Я замечала, что он выходил от нее с лукавой полуулыбкой на губах, со взглядом, полным разбуженного и удовлетворенного мужского тщеславия. При всей своей доброте и привлекательности, безупречным он не был, скорее напротив, если поощрял намерения, в успех которых не верил. Но не верил ли? Поговаривали, что он беден и целиком зависит от щедрости своих пока немногочисленных пациентов. Мадам, хотя и была старше его лет на четырнадцать, принадлежала к тому женскому типу, который никогда не стареет, не вянет и не сохнет. Они явно хорошо ладили: возможно, он и не был влюблен, но много ли людей в этом мире любят или хотя бы вступают в брак по любви? Мы ждали развязки.
Чего ждал доктор Джон, не знаю, как не знаю, что его вообще интересовало, но совершенно особенная манера, настороженный, бдительный, напряженный, увлеченный взгляд не покидали его, а, напротив, со дня на день только усиливались. Он никогда не находился всецело в границах моей проницательности, даже, думаю, со временем все больше выходил за ее пределы.
Однажды утром маленькая Жоржетта, почувствовав себя хуже, раскапризничалась и никак не желала успокаиваться. Я предположила, что прописанная микстура не пошла ей на пользу, усомнилась, следует ли продолжать прием, и с нетерпением ждала доктора, чтобы посоветоваться.
Послышался звонок, и доктора впустили (в этом я не сомневалась, услышав, как он здоровается с привратницей). Обычно он сразу поднимался в детскую: шагал через три ступеньки, приятно удивляя нас быстротой появления, – однако прошло пять минут, десять, а спасителя не было ни видно, ни слышно. Что могло произойти? Не исключено, он все еще был внизу, в холле. Маленькая Жоржетта продолжала плакать и жалобно просить о помощи:
– Минни, Минни, мне очень плохо!
(Так она называла меня.)
Сердце мое не выдержало, и я спустилась узнать, почему доктора до сих пор нет и куда он запропастился. Может, беседует с мадам в столовой? Нет, невозможно: я оставила ее в будуаре одеваться к визиту. Кроме того, столовая была одной из трех комнат, где занимались на фортепиано ученицы (еще две – большая и малая гостиные). Между ними и коридором находилась лишь комната привратницы, смежная с гостиными и изначально предназначенная для отдыха. Несколько дальше целый класс из дюжины голосов упражнялся в исполнении баркаролы (кажется, так они ее называли). До сих пор помню слова «fra?ch? bris?, Venis?»[67 - Свежий ветерок, Венеция (фр.).]. Что можно было услышать в таком шуме? Оказалось, что очень многое, если бы только это оказалось кстати.
Да, из комнаты привратницы доносилось кокетливое женское хихиканье, причем у самой двери, возле которой я стояла, к тому же чуть приоткрытой. Мягкий, глубокий мужской голос умоляюще произнес несколько слов, из которых я уловила лишь восклицание: «Ради бога!» Затем, после секундной паузы, из-за двери показался доктор Джон. Глаза его сияли, но не радостью или торжеством, на бледной английской щеке горел рукотворный румянец, а лицо хранило растерянное, встревоженное, полное муки и все же нежное выражение.
Распахнутая дверь послужила мне укрытием, но даже если бы я оказалась на пути, он бы прошел мимо, не заметив. Душой его владели унижение и острое раздражение. Но если вспомнить непосредственное впечатление, то переживания следует описать как печаль и сознание несправедливости. Тогда мне показалось, что не столько пострадала его гордость, сколько были ранены чувства – причем ранены жестоко. Но кто же осмелился так его обидеть? Кто из обитавших в доме существ держал его в своей власти? Мадам, кажется, оставалась в своей спальне. Та комната, откуда с разбитым сердцем вышел доктор, принадлежала исключительно привратнице Розин Мату – безнравственной хорошенькой маленькой французской гризетке: беспечной, ветреной, модной, тщеславной и корыстной. Не могла же ее рука подвергнуть доктора столь суровому наказанию?
Пока я терялась в догадках, сквозь приоткрытую дверь донесся чистый, хотя и немного резкий, голос, с удовольствием исполнявший легкую французскую песенку. Не веря своим ушам, я заглянула. Мадемуазель Мату сидела за столом в милом платье из розового батиста и подшивала изящный кружевной чепчик. Кроме привратницы, в комнате не было ни единой живой души, если не считать золотой рыбки в стеклянном шаре, нескольких цветков в горшках и веселого июльского солнца.
В этом и заключалась проблема, однако я должна была поспешить наверх, чтобы спросить о микстуре.
Доктор Джон сидел у постели Жоржетты, а мадам стояла рядом. Маленькая пациентка, уже осмотренная и успокоенная, тихо лежала в кроватке. Когда я вошла, мадам Бек рассуждала о здоровье самого доктора: говорила о реальной или воображаемой перемене внешности, упрекала в переутомлении и рекомендовала отдых на свежем воздухе. Молодой человек выслушал нотацию добродушно, но с насмешливым безразличием, и ответил, что она trop bonne[68 - Слишком добра (фр.).]: чувствует он себя прекрасно. Мадам обратилась ко мне, и доктор Джон проследил за ее движением медленным взглядом, отразившим ленивое удивление интересом к столь незначительному мнению.
– Что вы думаете, мисс Люси? Разве доктор не выглядит бледным и худым?
В присутствии доктора Джона я редко произносила что-нибудь длиннее одного слога: неизменно оставалась тем пассивным, незаметным существом, которым он меня и считал, – сейчас, однако, набралась смелости и ответила развернутой фразой, причем намеренно наполнила ее глубоким смыслом.
– В эту минуту доктор действительно выглядит нездоровым, но, возможно, по какой-то временной причине: не исключено, что месье взволнован или раздражен.
Не могу сказать, как он воспринял высказывание, поскольку ни разу не взглянула ему в лицо. В этот момент Жоржетта на своем ломаном английском попросила стакан eau sucrеe[69 - Сладкой воды (фр.).]. Я ответила ей по-английски. Кажется, впервые за все время доктор заметил, что я чисто говорю на его родном языке. До этого он принимал меня за иностранку, обращался «мадемуазель» и по-французски давал указания относительно лечения ребенка. Он явно собрался что-то сказать, однако передумал и промолчал.
Мадам возобновила советы. Доктор покачал головой, со смехом встал и попрощался вежливо, однако с рассеянным видом человека, утомленного избытком нежелательного внимания.
Как только он ушел, мадам упала на освободившийся стул и положила подбородок на руку. Оживление и дружелюбие мгновенно улетучились: сейчас она выглядела окаменевшей, суровой, почти униженной и печальной. Из груди вырвался единственный, но глубокий вздох. Громкий звонок провозгласил начало утренних занятий. Она встала. Проходя мимо туалетного стола с зеркалом, взглянула на свое отражение. В каштановых прядях блеснул единственный седой волос, и она, вздрогнув, вырвала его. В ярком летнем свете было ясно видно, что все еще сохранившее румянец лицо утратило и свежесть, и четкие очертания молодости. Ах, мадам! Даже такую мудрую женщину, как вы, слабость не обошла стороной. Прежде я никогда не жалела мадам Бек, но в ту минуту, когда она мрачно отвернулась от зеркала, сердце мое дрогнуло. Ее постигла катастрофа. Ведьма по имени Разочарование приветствовала вызывающим ужас салютом, а душа отвергала искренность.
Но Розин! Мое недоумение не поддается описанию. В тот день я пять раз прошла мимо комнаты привратницы в надежде обнаружить ее чары и постичь секрет влияния. Она была веселой, хорошенькой, всегда красиво одевалась. Полагаю, рассмотренная в философском ключе, сумма этих достоинств смогла бы объяснить агонию отчаяния, постигшую молодого доктора Джона. И все же в глубине души родилось смутное желание, чтобы он был моим братом или хотя кого-нибудь, кто по-доброму бы его отчитал. Я говорю «смутное», потому что не дала желанию проясниться и стать отчетливым, вовремя осознав его абсолютную глупость. Кто-нибудь наверняка может точно так же отчитать мадам за молодого доктора. Но какая от этого польза?
Полагаю, мадам Бек сама строго себя отчитала, поскольку не проявила малодушия и не выставила на посмешище свою минутную слабость. К счастью, ей не пришлось преодолевать сильные чувства, испытывать боль и горечь разочарования. Правда и то, что в ее жизни присутствовало важное занятие – настоящий бизнес, способный заполнить время, отвлечь мысли и рассеять нежелательный интерес. И особенно существенно то, что она обладала истинным здравым смыслом, большинству несвойственным. Объединившись, эти качества позволили ей вести себя с мудрым достоинством, как подобает леди. И снова браво, мадам Бек! Я увидела, что вы способны бороться с пристрастием. Вы достойно приняли бой и победили!
Глава XII
Шкатулка
За домом на рю Фоссет располагался сад – для центра города очень большой и, как мне помнится, необыкновенно роскошный. Однако время, как и расстояние, оказывает на впечатление смягчающее действие: там, где повсюду лишь камень, голые стены и раскаленная мостовая, драгоценным кажется даже единственный кустик, а крохотный кусочек земли предстает восхитительно уютным и зеленым!
Традиционно считалось, что в давние времена дом мадам Бек был монастырем и в прошлом – не берусь сказать, насколько далеком, но думаю, что несколько веков назад, – прежде чем город поглотил вспаханные земли и аллею, лишив обитель должного религиозного уединения, на этом месте случилось внушившее страх и породившее ужас событие. Особняк заслужил репутацию дома с привидениями. Ходили слухи, что иногда по ночам в окрестностях появляется призрак монахини в черно-белом одеянии. Должно быть, история родилась еще несколько веков назад, поскольку сейчас повсюду стояли дома, однако о существовании монастыря напоминали освящавшие место огромные древние фруктовые деревья. Одно из них – груша, – несколько ветвей которой продолжали преданно ронять душистый снег весной и сладкие как мед плоды осенью, представляло собой истинного Мафусаила. Если разгрести заросшую мхом землю среди полуобнаженных корней, можно было увидеть плиту – гладкую, твердую и черную. Неподтвержденная и непроверенная, но упорно повторяемая легенда гласила, что это вход в склеп, где в скрытой под зеленой травой и яркими цветами мрачной, безысходной глубине покоятся кости девушки, за нарушение клятвы заживо похороненной безжалостным средневековым монашеским орденом. Ее тень пугала слабых духом даже через столетия после того, как бедное тело превратилось в прах. Лунный свет и дрожащие на ветру причудливые тени рисовали в воспаленном воображении черное одеяние и белое покрывало.
Старинный сад очаровывал и сам по себе, независимо от романтических глупостей. Летом я вставала пораньше, чтобы в одиночестве насладиться утренней свежестью; летними вечерами любила прийти на свидание с восходящей луной, ощутить легкий поцелуй ветерка или скорее вообразить, чем почувствовать, влагу выпадающей росы. Земля вокруг была покрыта буйной растительностью, белела усыпанная гравием дорожка, вокруг старинных фруктовых деревьев с сухими верхушками радостно сияли солнечные цветы настурции. В тени пышной акации стояла большая беседка, но было и еще одно, более уединенное убежище, спрятанное среди виноградных лоз, упорно тянувшихся по высокой серой стене, сплетавшихся причудливыми узлами и в щедром изобилии спускавшихся к излюбленному месту, чтобы встретиться и соединиться с жасмином и плющом.
Не приходится сомневаться, что в разгар дня, когда школа мадам Бек впадала в неистовство, а пансионерки и приходящие ученицы вырывались на волю, чтобы помериться силой легких, ног и рук с обитателями соседнего мужского коллежа, сад превращался в изрядно затоптанное и помятое место. Однако на закате или в час вечерней молитвы, когда экстерны расходились по домам, а пансионерки спокойно занимались своими делами, я с удовольствием гуляла по тихим аллеям, прислушиваясь к мягкому, возвышенному перезвону колоколов церкви Святого Иоанна Крестителя.
Однажды вечером я дольше обычного задержалась в сгущающихся сумерках, очарованная глубоким спокойствием, щедрой прохладой, душистым дыханием, которым в отсутствие солнца цветы благодарно отвечали на утешение росы. Свет в окне часовни подсказал, что католическое сообщество уже собралось на вечернюю молитву – обряд, который я, как протестантка, время от времени позволяла себе пропустить.
«Останься еще на пару мгновений, – послышался шепот уединения и летней луны. – Сейчас все везде спокойно, так что с четверть часа твое отсутствие никто не заметит. Суета жаркого дня так утомительна. Насладись же драгоценными минутами тишины!»
Дальняя сторона сада была ограничена длинным рядом зданий, представлявших собой пансионаты соседнего колледжа. Ряд этот, однако, повернулся к нам сплошной черной стеной за исключением нескольких узких, похожих на бойницы щелей под крышей, обозначавших каморки женской прислуги, а также единственного окна, по слухам, отмечавшего кабинет или спальню директора. Однако, несмотря на абсолютную безопасность, аллея, что тянется параллельно очень высокой стене этой части сада, была объявлена запретной для учениц (l’allеe dеfendue[70 - Запретная аллея (фр.).]), и нарушительница рисковала подвергнуться наказанию настолько серьезному, насколько допускали мягкие правила заведения мадам Бек. Учителя могли гулять здесь беспрепятственно, однако, поскольку аллея была узкой, а запущенные кусты разрослись с обеих сторон и вверх, образовав почти непроницаемую для солнца крышу из веток и листьев, уголок этот редко привлекал внимание даже днем, а по вечерам и вообще оставался безлюдным.
С первых дней я испытывала искушение нарушить общепринятое правило: уединенность и даже сумрак аллеи привлекали меня. Долгое время сдерживала боязнь показаться странной, однако постепенно все вокруг начали привыкать ко мне и к свойственным моей натуре особенностям – не настолько ярким, чтобы кого-то заинтересовать, и не настолько резким, чтобы оскорбить. Мало-помалу я осмелела и превратилась в постоянную обитательницу этой узкой таинственной тропинки, а потом и вовсе взяла на себя обязанности садовника: позаботилась о пробивавшихся между кустами бледных цветах; убрала опавшую листву, скрывавшую простую скамейку в дальнем конце аллеи; попросила у кухарки Готон ведро воды и жесткую щетку и отчистила ее поверхность. Мадам Бек увидела меня за работой и, одобрительно улыбнувшись – не знаю, насколько чистосердечно, – воскликнула:
– Voyez-vous, comme elle est propre, cette demoiselle Lucie? Vous aimer donc cette allеe, Meess?[71 - Видите, как она чистоплотна, эта мадемуазель Люси? Значит, вам нравится эта аллея, мисс? (фр.)]
– Да, – ответила я. – Здесь спокойно и прохладно.
– C’est juste![72 - Верно! (фр.)] – воскликнула она добродушно и любезно позволила проводить в тихом уголке столько времени, сколько захочется, добавив, что наблюдение за дисциплиной не входит в мои обязанности, а потому нет необходимости гулять вместе с ученицами.
Единственное условие: я должна позволить ее детям приходить сюда, чтобы беседовать со мной по-английски.
Тем вечером я сидела на отвоеванной у листьев, грибов и плесени уединенной скамейке, прислушиваясь к тому, что казалось далекими звуками города. Честно говоря, далекими они не были, так как школа располагалась в центре: за пять минут можно было дойти до парка, а меньше чем за десять – до роскошных, похожих на дворцы зданий. Совсем близко шумели широкие, залитые ярким светом улицы, по ним грохотали экипажи, торопясь доставить публику на балы и в театры. Тот самый час, который в нашем монастыре требовал отхода ко сну, гасил все лампы и опускал полог каждой кровати, призывал остальной неугомонный город к праздничному веселью, однако я не задумывалась об этом контрасте. Стремление к развлечениям было чуждо моей натуре. Ни бала, ни оперы я никогда не видела, хотя представление о них имела по рассказам и даже не прочь была посмотреть, однако особенно не стремилась. Это было всего лишь спокойным интересом к чему-то новому.
На небе уже появилась луна, но не полная, а в виде тонкого молодого месяца. Я заметила ее сквозь переплетенные над головой ветви. Луна и россыпь звезд не казались странными там, где все остальное представало чуждым: их я знала с детства. В давно минувшие дни, в доброй старой Англии, я видела, как золотой серп с темной сферой в изгибе сияет на синем небесном своде возле лохматого колючего куста точно так же, как сейчас сиял возле величественного шпиля в этой континентальной столице.
О, мое детство! Сколько чувств рождало оно! Как бы пассивно я ни жила, как бы мало ни говорила, какой бы холодной ни выглядела, воспоминания о былом переполняли душу. В отношении настоящего следовало быть стоиком; в отношении будущего – такого, какое ждало меня, – мертвецом. В оцепенении и ледяном трансе я старательно сдерживала врожденную живость натуры.
Хорошо помню все, что могло взволновать в то время. Например, некоторые природные явления вызывали едва ли не ужас, потому что пробуждали чувства, которые я упорно подавляла, и рождали крик отчаяния, который не могла себе позволить. Однажды ночью разразилась страшная гроза. Внезапный ураган заставил нас вскочить с постелей. Католички в панике упали на колени и принялись молиться своим святым. На меня же стихия подействовала неожиданно властно: я ощутила внезапное возбуждение и острую потребность жить. Встала, оделась, вылезла в находившееся возле кровати окно и села на выступ, поставив ноги на крышу прилегающего, но более низкого, здания. Было мокро, ветрено, холодно, абсолютно темно и очень страшно. В общей спальне все в ужасе собрались вокруг ночника и продолжали неистово молиться. Я не могла к ним присоединиться: настолько непреодолимым оказался восторг бури – черной, громыхавшей такие оды, каких язык никогда не дарил и не подарит человеку, – настолько великолепной, хотя и жуткой, предстала картина рассеченных, пронзенных ослепительно-белыми вспышками облаков.
Тогда и еще целые сутки потом я страстно мечтала, чтобы что-то вырвало меня из нынешнего существования, увело вперед и вверх. Эту мечту, как и все прочие желания подобного рода, следовало убить на месте. В переносном смысле я сделала с ней то же самое, что Иаиль сотворила с полководцем Сисарой[73 - Иаиль, Сисара – персонажи ветхозаветной Книги судей. – Примеч. ред.]: вогнала в висок острый кол, – однако, в отличие от Сисары, мечта не умерла. Пронзенная колом, она время от времени судорожно вздрагивала. Тогда виски начинали кровоточить, а мозг мучительно возвращался к жизни.
В этот вечер я не чувствовала себя ни убийственно жестокой, ни безысходно несчастной. Мой Сисара спокойно лежал в шатре, погрузившись в забытье. А если сквозь дремоту пробивалась боль, нечто вроде ангела или идеала опускалось рядом на колени, умащало виски бальзамом и подносило к закрытым очам магическое зеркало, сладкие, торжественные видения которого повторялись в снах и простирали отражение одеяний и залитых лунным светом крыльев над пронзенным воином, над шатром, над всем окружающим пейзажем. Непреклонная Иаиль сидела поодаль, слегка сожалея об участи пленника, но куда больше предаваясь верному ожиданию мужа Хевера. Этим ветхозаветным образом я хочу показать, что мирная прохлада и сладостная, росистая свежесть вечера вселили в мою душу надежду: не какое-то конкретное представление, а обобщенное чувство бодрости и сердечной легкости.
Разве не должно было это настроение – такое приятное, спокойное, непривычное – предвещать добро? Увы, ничего хорошего оно не принесло! Очень скоро ворвалась грубая реальность, а зло предстало во всей своей отталкивающей лживости.
Среди абсолютной тишины каменных зданий, деревьев и высокой стены внезапно раздался звук скрипнувшей оконной рамы (все окна здесь представляют собой рамы и держатся на петлях). Прежде чем я успела поднять голову и увидеть, где, на каком этаже и кем было открыто окно, дерево над головой качнулось, словно что-то его задело, а потом это «что-то» упало к моим ногам.
Часы на церкви Святого Иоанна Крестителя пробили девять. День угасал, однако тьма еще не наступила. Молодая луна помогала плохо, но яркая позолота в той точке неба, где скрылось солнце, и кристальная ясность обширного пространства над ней продлили летние сумерки. Даже в моей темной аллее можно было, выбрав место между деревьями, прочитать начертанное мелким почерком письмо, так что упавший предмет – шкатулку из слоновой кости – я без труда рассмотрела. Крышка сама открылась в моей ладони. Внутри оказались фиалки, скрывавшие плотно сложенный клочок розовой бумаги: записку, адресованную Pour la robe grise[74 - Той, что в сером платье (фр.).], на мне же было светло-серое платье.
Прекрасно. Было ли это послание billet-doux[75 - Любовной запиской (фр.).]? О подобных вещах я, конечно, слышала, но до сих пор не имела чести видеть и тем более держать в руках. Неужели именно это ценное изобретение человечества я сжимала между указательным и большим пальцами?
Вряд ли. О такой чести я даже не мечтала. Ни один поклонник не фигурировал в моих мыслях. Все учительницы грезили о неких любовниках, а одна (излишне доверчивая) даже думала о будущем муже. Все ученицы старше четырнадцати лет знали, что когда-нибудь у них появятся женихи, а две-три и вовсе были с детства обручены по решению родителей. Однако вторгаться в царство открывавших подобные перспективы чувств и надежд мои размышления, а тем более предположения, никогда не осмеливались. Если другие учительницы выходили в город, гуляли по бульварам или хотя бы посещали мессу, то непременно (как они потом рассказывали) встречали кого-нибудь из представителей противоположного пола, чей острый, заинтересованный взгляд свидетельствовал о силе произведенного впечатления. Никак не могу сказать, что мой опыт в этом отношении мог сравниться с опытом коллег. Я ходила в церковь, гуляла, но абсолютно уверена, что никто и ни разу не обратил на меня внимания. На рю Фоссет не было ни единой девушки или женщины, которая не могла бы с гордостью заявить (и не заявляла), что встречала восхищенный взгляд голубых глаз нашего молодого доктора. И только я должна честно признаться, как бы унизительно это ни звучало, что составляла исключение: по отношению ко мне голубые глаза оставались спокойными и равнодушными. Так и получилось, что я слушала разговоры учениц и коллег, часто удивлялась их веселью, бесстрашию и довольству собой, однако ни разу не попыталась поднять голову и посмотреть вперед – на ту тропу, по которой они так уверенно шли. Итак, в моих холодных руках оказалась вовсе не мне адресованная любовная записка. Развернув ее, я немедленно убедилась в этом. И вот что прочла:
«Ангел моей мечты! Тысяча, тысяча благодарностей за то, что исполнили обещание: едва ли я отваживался надеяться на его осуществление. Честно говоря, считал, что вы шутите. К тому же замысел казался вам таким опасным, час – неподходящим, а аллея – уединенной. Больше того, по вашим словам, там часто гуляет дракон – английская учительница. Une vеritable bеgueule Britannique ? ce que vous dites – esp?ce de monstre, brusque et rude comme un vieux caporal de grenadiers, et rev?che comme une reе?ligieuse[76 - Настоящая британская недотрога, как вы говорите – подобие чудовища, – суровая и грубая, словно старый капрал-гренадер, и несговорчивая, как монахиня (фр.).]».
Надеюсь, читатель простит скромность в представлении этого лестного описания моего милого образа под легкой вуалью чужого языка.
«Вам известно, что из-за болезни маленького Густава перевели в комнату директора – ту самую, окно которой смотрит в сад вашей тюрьмы, – а я, как лучший в мире дядя, получил позволение навещать племянника. С каким трепетом я подошел к окну и заглянул в ваш Эдем – рай для меня, хотя и пустыню для вас! Как боялся увидеть пустоту или упомянутого дракона! И вот сердце затрепетало от восторга, когда сквозь просвет между завистливыми ветвями увидел проблеск изящной соломенной шляпки и волну серого платья, которое узнаю среди тысячи. Но почему же, ангел мой, вы не посмотрели вверх? Жестоко отказывать страждущему в единственном луче обожаемых глаз! Как бы оживил меня краткий взгляд! Пишу в жаркой спешке: пока доктор осматривает Густава, пользуюсь возможностью, чтобы вложить послание в маленькую шкатулку вместе с букетиком сладчайших цветов – и все же не столь сладких, как вы, моя пери, мое очарование!
Вечно ваш – сами знаете кто!»
«Хотелось бы знать, кто это», – сказала я себе, имея в виду не столько автора, сколько адресата этого нежного послания. Возможно, оно написано женихом одной из обрученных учениц? В таком случае особого вреда оно не принесет и может считаться лишь некоторым отступлением от правил. У многих – если ли не у большинства – девушек в соседнем коллеже учились братья или кузены, однако признаки la robe grise, le chapeau de paille[77 - Серое платье, соломенная шляпа (фр.).] – сбивали с толку. Соломенная шляпа – это обычный головной убор, такие носят все обитательницы школы, включая меня. Серое платье тоже едва ли проясняло ситуацию. В тот период и сама мадам Бек носила серое платье, а кроме того, одна из учительниц и три пансионерки купили платья, почти не отличавшиеся от моего. Такой повседневный наряд тогда соответствовал моде.
Теряясь в догадках, я поняла, что пора возвращаться. Свет в окнах спальни свидетельствовал о том, что молитва закончена и ученицы ложатся спать. Через полчаса все двери закроются, а свет погаснет, но пока дверь в сад оставалась открытой, чтобы впустить в душное здание прохладу летней ночи. Из комнаты привратницы выбивался свет лампы, позволяя увидеть длинный коридор, с одной стороны которого располагалась двустворчатая дверь гостиной, а замыкала перспективу импозантная парадная дверь.
Внезапно раздался короткий звонок – скорее даже осторожное звяканье, нечто вроде предупреждающего металлического шепота. Розин выбежала из своей комнаты и бросилась открывать, потом с тем, кого впустила, минуты две беседовала. Видимо, они о чем-то спорили или что-то вызвало недоумение. С лампой в руке Розин подошла к двери в сад, остановилась на пороге и, высоко подняв лампу, зачем-то посмотрела по сторонам, потом кокетливо рассмеялась: