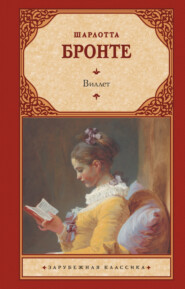скачать книгу бесплатно
– Могу дать адрес вполне подходящей гостиницы, – предложил незнакомец. – Это недалеко, так что легко найдете.
Он вырвал из записной книжки листок, начертал несколько слов и отдал мне. Я подумала, что прекрасный принц невероятно добр, а что касается недоверия к нему самому, его совету или адресу, то с тем же успехом можно было бы скептически отнестись к Библии. Лицо джентльмена выражало участие, а глаза светились благородством, когда он пояснил:
– Кратчайший путь лежит по бульвару и через парк, однако сейчас уже поздно и темно, так что я вас немного провожу.
Он тронулся в путь, а я последовала за ним сквозь тьму и мелкий пронизывающий дождик. Бульвар оказался пустынным, с мокрой грязной аллеей и низко склонившимися деревьями, с которых капала вода, а парк встретил кромешной тьмой. В двойном мраке деревьев и тумана я не видела своего проводника, а лишь слышала его поступь, однако не испытывала ни тени страха. Думаю, могла бы следовать за ним ночью до самого края земли.
– Ну вот, – заговорил джентльмен, когда парк закончился. – Теперь идите по этой широкой улице, пока не увидите ступени: их освещают два фонаря. Спуститесь по ним на другую, узкую улицу и в конце ее найдете свою гостиницу. Там говорят по-английски. Можно считать, что ваши затруднения закончились. Доброй ночи.
– Доброй ночи, сэр, – ответила я. – Примите мою искреннюю благодарность.
Мы расстались.
Воспоминание о лице этого человека, освещенном сочувствием к одиночеству, о его голосе, выдававшем рыцарственную по отношению к нужде и слабости натуру, равно как воспоминание о его молодости и красоте, долго согревало мое сердце. Незнакомец оказался истинным английским джентльменом.
Я пошла в указанном направлении мимо великолепных домов, больше похожих то ли на дворцы, то ли на соборы. Когда шла по галерее, из-за колонны внезапно показались два человека с усами. Оба курили сигары и были одеты с претензией на звание благородных господ, однако – бедняги! – оказались плебеями в душе. Заговорили развязно, и хоть я шла быстро, долго не отставали. Наконец показался полицейский патруль, и опасные преследователи поспешили скрыться в темном переулке, однако успели настолько меня напугать, что я уже не понимала, где нахожусь. Лестницу, должно быть, давно прошла. Запыхавшись, с тяжело бьющимся от волнения сердцем, я остановилась в растерянности. Страшно было снова столкнуться с бородатыми преследователями, однако ничего иного, кроме как направиться в обратную сторону в поисках освещенных ступеней, не оставалось.
Наконец я нашла старую, стертую лестницу и, решив, что именно о ней и шла речь, спустилась. Улица, на которой оказалась, действительно выглядела узкой, к тому же тихой, относительно чистой и аккуратно вымощенной. Вот только гостиницы на ней не было. Я медленно пошла вперед и заметила свет над дверью большого, возвышавшегося над окружающими постройками здания. Здесь вполне могла располагаться гостиница. Колени дрожали от усталости и волнения, но я все же ускорила шаг.
Однако это оказалась вовсе не гостиница. Импозантные ворота украшала медная табличка: «Пансионат для девочек мадам Бек».
Я вздрогнула. В голове вихрем пронесся сонм мыслей, но я не услышала ни одной: не было времени, – так что Провидение приказало: «Остановись здесь. Это и есть твоя гостиница».
Судьба сжала мою руку всесильной дланью, овладела разумом и властно повелела действовать. Я позвонила.
Пока ждала, ни о чем не думала: просто смотрела на мокрые камни мостовой, в которых отражался свет лампы, считала их, замечала форму, – позвонила снова. Наконец дверь открылась. Передо мной стояла бонна в красивом чепце, и я спросила:
– Можно побеседовать с мадам Бек?
Думаю, заговори я по-французски, она бы меня не впустила, но, услышав английскую речь, решила, что иностранная учительница пришла по делам пансионата, и, несмотря на поздний час, позволила войти без единого слова возражения или момента сомнения.
Вскоре я уже сидела в холодной сверкающей гостиной с погасшим фарфоровым камином, позолоченными орнаментами на стенах и до блеска отполированным полом. Часы на каминной полке пробили девять.
Ожидание длилось четверть часа. Как быстро билось сердце! Меня бросало то в жар, то в холод! Я сидела, не сводя глаз с двери – большой белой двустворчатой двери, украшенной позолоченной лепниной в виде виноградных листьев. Вдруг показалось, что один лист шевельнулся. Вокруг царила тишина: даже мышь не скреблась. Белая дверь оставалась закрытой и неподвижной.
– Вы англичанка? – раздался голос возле моего локтя.
Я едва не подпрыгнула: настолько неожиданным оказался звук.
Рядом стоял вовсе не призрак и не существо потустороннего вида, а всего лишь невысокого роста полная женщина, закутанная в большую шаль поверх халата и в чистом нарядном чепце.
Я ответила, что англичанка, и сразу, без дальнейшей прелюдии, между нами завязался удивительный разговор. Мадам Бек (ибо это была она – вошла в мягких домашних туфлях через маленькую дверь за моей спиной и приблизилась неслышными шагами) исчерпала запас познаний в островной речи, спросив, англичанка ли я, и теперь продолжила бойко изъясняться уже на родном языке. Я отвечала на своем. Она немного понимала меня, но поскольку я совсем ее не понимала, хотя вместе мы создавали ужасный шум (прежде никогда не встречала и даже не представляла красноречия, подобного ее безудержному словесному потоку), прогресс оказался незначительным. Вскоре мадам позвонила и попросила о помощи, и та явилась в образе maitresse, которая когда-то жила в ирландском монастыре и считалась безупречным знатоком английского языка. Учительница эта – истинная уроженка Лабаскура – оказалась мастерицей пускать пыль в глаза. Как же она издевалась над гордой речью Альбиона! Тем не менее я честно поведала ей простую историю, которую она каким-то образом перевела: как покинула родную страну, чтобы расширить познания и заработать на хлеб; как стремлюсь приложить руки к любому полезному делу, лишь бы оно было не дурным и не унизительным; как хочу стать няней или горничной и не откажусь от посильной работы по хозяйству. Мадам выслушала внимательно, и, судя по выражению лица, история проникла в ее сознание.
– Il n’y a que les Anglaises pour ces sortes d’entreprises[11 - Никто, кроме англичанок, не согласится на такую работу (фр.).], – проговорила она. – Sontelles donc intrеpides ces femmes l?![12 - Какие бесстрашные женщины! (фр.)]
Она спросила, как меня зовут, сколько мне лет. Сидела и смотрела без тени жалости, но и без всякого интереса. Во время беседы лицо ее не выражало ни симпатии, ни презрения. Стало ясно, что чувства над ней не властны. Она наблюдала и слушала серьезно и внимательно, полагаясь на собственные суждения. Послышался удар колокола.
– Пора к вечерней молитве, – заключила мадам Бек и, поднявшись, через переводчицу порекомендовала мне уйти и вернуться завтра.
Это меня никак не устраивало: вновь предстать перед опасностями тьмы и улицы было выше моих сил. Со всей энергией, заключенной в сдержанной, скромной манере, я обратилась лично к госпоже, а не к учительнице:
– Поверьте, мадам: если немедленно примете меня на работу, интересы ваши нисколько не пострадают, а, напротив, будут полностью соблюдены. Увидите, что своим трудом я в полной мере оправдаю жалованье. Если наймете меня сейчас же, это будет тем лучше, что я смогу остаться на ночь: не зная языка и не имея знакомых, как мне удастся найти приют?
– Верно, – ответила мадам Бек. – Но вы можете представить хотя бы рекомендации?
– Ни единой.
Она спросила о моем багаже, и я ответила, что он скоро прибудет. Она опять задумалась. В этот момент в вестибюле послышались мужские шаги, быстро направлявшиеся к выходу (продолжу рассказ так, как будто понимала все, что происходит, хотя тогда разговор оставался загадкой, и лишь впоследствии я услышала его в переводе).
– Кто уходит? – осведомилась мадам Бек, обратив внимание на шаги.
– Месье Поль, – ответила учительница. – Сегодня вечером он читал первому классу.
– Именно его я сейчас хочу видеть больше всех. Позовите.
Учительница бросилась к двери гостиной и окликнула месье Поля. Тот вошел: маленький, темноволосый, худой, в очках.
– Кузен, – обратилась к нему мадам Бек, – мне необходимо ваше суждение. Всем известно, насколько вы искусны в физиономике. Используйте свое мастерство, прочитайте это лицо.
Очки сосредоточились на мне. Решительно сжатые губы, нахмуренный лоб доказывали, что он видит меня насквозь, невзирая на покровы и завесы.
– Прочитал, – наконец заявил он.
– Et qu’en dites vous?[13 - И что скажете? (фр.)]
– Mais… bien des choses[14 - Ну… много чего (фр.).], – не замедлил с ответом оракул.
– Хорошего или плохого?
– Несомненно, и того и другого, – заверил прорицатель.
– Можно верить ее словам?
– Вы обсуждаете важное дело?
– Она просится на работу в качестве бонны или гувернантки, рассказывает заслуживающую доверия историю, но не может предоставить рекомендаций.
– Иностранка?
– Судя по всему, англичанка.
– Говорит по-французски?
– Ни слова.
– Понимает?
– Нет.
– Можно говорить при ней прямо?
– Несомненно.
Он посмотрел пристально.
– Вы нуждаетесь в ее услугах?
– Не отказалась бы. Вам известно, насколько отвратительна мне мадам Свини.
Месье Поль снова уставился на меня. Последовавшее суждение оказалось столь же неопределенным, как и предыдущее высказывание.
– Наймите ее. Если добро возобладает в этой натуре, поступок принесет благо; если же зло… eh bien! Ma cousine, ce sera toujours une bonne oeuvre[15 - Что ж! Кузина, все равно это станет благим деянием (фр.).].
Поклонившись и пожелав bon soir[16 - Добрый вечер (фр.).], невнятный повелитель моей судьбы удалился.
Мадам Бек наняла меня в тот же вечер. По Божьему благословению я была избавлена от необходимости вновь оказаться на темной, страшной, враждебной улице.
Глава VIII
Мадам Бек
Получив задание позаботиться о новенькой, длинным узким коридором учительница привела меня в заграничную кухню – очень чистую, но очень странную. Казалось, там не было главного – средства приготовления еды: очага или печи. Тогда я не поняла, что занимавшая один из углов массивная черная плита успешно заменяет и то и другое. Поверьте, гордость вовсе не подняла голову в душе, и все же я испытала облегчение, когда, вместо того чтобы оставить в кухне, как можно было предположить, меня провели в маленькую внутреннюю комнату под названием «кабинет», и повариха в кофте, короткой юбке и деревянных башмаках принесла ужин, а именно: поданное в странном – кислом, но приятном – соусе мясо неизвестного происхождения, мелко порезанный картофель, приправленный непонятно чем – полагаю, уксусом и сахаром, – кусок хлеба с маслом и печеную грушу. Отчаянно проголодавшись, я быстро и с благодарностью все это съела.
После pri?re du soir[17 - Вечерней молитвы (фр.).] мадам пришла еще раз на меня посмотреть и захотела, чтобы я отправилась с ней наверх. Через вереницу необычайно странных каморок – как оказалось впоследствии, некогда бывших монашескими кельями, так как здание являлось частью монастыря, – через часовню – длинную, низкую, мрачную, где на стене висело бледное распятие и тускло горели две свечи, – она привела меня в комнату, где в трех крошечных кроватках спали три девочки. Из-за раскаленной печи здесь царила гнетущая духота. Очевидно, чтобы исправить положение, в воздухе витал аромат: скорее сильный, чем деликатный, и совершенно неожиданный в данных обстоятельствах, напоминавший сочетание дыма с некой алкогольной эссенцией – скорее всего виски.
Возле стола, где, забытая в подсвечнике, догорала свеча, в глубоком кресле крепко спала мужеподобная женщина, странно одетая – в нескромное полосатое шелковое платье и шерстяной передник – матрона. Завершая сюжет и не оставляя сомнений в положении вещей, у локтя спящей красотки стояла бутылка и пустой стакан.
С величайшим самообладанием мадам созерцала эту картину, не улыбалась и не хмурилась. На невозмутимо спокойном лице не отразилось даже тени гнева, отвращения или удивления. Она даже не разбудила даму! А безмятежно указала на четвертую кровать, давая понять, что это мое место, затем, погасив свечу и заменив ее ночником, вышла через внутреннюю дверь, оставив ее приоткрытой. Сквозь щель я увидела ее личные покои – большую, хорошо обставленную комнату.
Тем вечером молитва моя была преисполнена благодарности. С самого утра, неожиданно направляя и помогая, меня вела странная сила. Трудно было представить, что еще и двух суток не прошло с тех пор, как я оставила Лондон, не имея другой защиты, кроме той, какая положена любой перелетной птице, не ведая другой цели, кроме туманного облачка надежды.
Спала я чутко и среди ночи внезапно проснулась. Было абсолютно тихо, но посреди комнаты стояла белая фигура – мадам в ночной сорочке. Беззвучно двигаясь, она проверила, как там дети в своих кроватках, и подошла ко мне. Я притворилась спящей, и она долго на меня смотрела, усевшись на край постели, пристально глядя в лицо. Потом придвинулась ближе, наклонилась, слегка приподняла чепчик и отвернула оборку, открывая волосы. Взгляд ее переместился на лежавшую поверх одеяла руку, а затем она повернулась к изножью кровати – к стулу, где я оставила одежду. Услышав, что она дотронулась до нее, я настороженно открыла глаза: хотелось узнать, насколько далеко зайдет исследовательский интерес. Мадам Бек изучила каждый предмет, и я поняла, с какой целью: видимо, по одежде она хотела составить мнение о владелице – положении, средствах, аккуратности. Цель сама по себе неплохая, хотя средства трудно назвать порядочными или оправданными. В моем платье имелся карман, и она вывернула его буквально наизнанку: пересчитала деньги в кошельке, открыла маленькую записную книжку, хладнокровно изучила содержание и достала хранившийся между страницами седой локон мисс Марчмонт. Особого внимания заслужила связка из трех ключей: от саквояжа, секретера и рабочей шкатулки. Взяв ключи, она вышла в свою комнату. Я немного приподнялась и проводила ее взглядом. Поверьте, читатель: ключи не вернулись до тех пор, пока не оставили следы бороздок на восковой пластине. Методично пройдя все необходимые процедуры, вещи и одежда были должным образом сложены и возвращены на свои места. Какого свойства выводы последовали из столь тщательного осмотра – благоприятные или враждебные? Тщетно гадать. Каменное лицо (ибо сейчас, ночью, оно действительно выглядело каменным, хотя прежде, в гостиной, казалось едва ли не материнским) ничего не выражало.
Исполнив свой долг – именно так она наверняка воспринимала эти действия, – мадам Бек встала и неслышно, словно тень, направилась к себе, возле двери обернувшись и устремив взгляд на любительницу выпить, которая по-прежнему спала и громко храпела. Судьба миссис Свини (полагаю, по-английски или по-ирландски фамилия звучала как «Суини») – была решена. Взгляд мадам Бек не оставлял сомнений: кара за порок станет тихой, но неотвратимой. Все это выглядело чрезвычайно не по-английски. Поистине, я оказалась в чуждой стране.
Утром мне довелось познакомиться с миссис Суини поближе. Выяснилось, что хозяйке пансионата она представилась английской леди в затруднительных обстоятельствах, уроженкой Мидлсбро, которая говорит на чистейшем английском, без малейшего акцента. Полагаясь на собственные непогрешимые средства своевременного постижения правды, мадам обладала особой отвагой, нанимая сотрудниц экспромтом (что красноречиво доказал мой личный опыт). Миссис Суини она приняла на работу в качестве няни и гувернантки трех своих дочек. Вряд ли необходимо объяснять читателю, что на самом деле означенная леди оказалась уроженкой Ирландии. О ее положении судить не берусь. Сама она безапелляционно заявила, что воспитала сына и дочь маркиза. Думаю, однако, что, скорее всего, дамочка была приживалкой, нянькой, кормилицей или прачкой в какой-нибудь ирландской семье, но непонятно почему коверкала свою речь свойственными кокни причудливыми окончаниями. Каким-то неясным способом она получила в свое полное распоряжение подозрительно богатый гардероб. Плохо сидевшие платья из плотного дорогого шелка явно были рассчитаны на иную фигуру. Чепцы с отделкой из старинных кружев не соответствовали образу хозяйки. Но главный козырь – волшебство, рождавшее благоговейный страх среди презрительно настроенных учительниц и служанок и даже, красуясь на широких плечах, производившее впечатление на саму мадам Бек – заключался в настоящей индийской шали. «Un vеritable cachemire»[18 - Настоящий кашемир (фр.).], – с почтительным изумлением признала директриса. Не сомневаюсь, что без этого самого кашемира миссис Суини не продержалась бы в доме и пары дней; лишь благодаря достоинствам чудесной шали срок увеличился до месяца.
Едва узнав, что появилась претендентка на ее место, она обрушила на мадам Бек всю свою мощь и напала на меня, сконцентрировав силу и вес. Мадам выдержала атаку настолько стоически, с таким несокрушимым благородством, что из одного лишь стыда мне не оставалось ничего иного, как проявить терпение. Лишь на краткий миг она покинула комнату, а спустя десять минут в пансионате уже была полиция. Миссис Суини удалилась вместе с вещами. Во время трогательной сцены прощания лоб мадам Бек не омрачился ни единой морщиной, а с губ не слетело ни одного резко произнесенного слова.
Краткая процедура увольнения состоялась перед завтраком. Команда убираться вон прозвучала, полицейские явились, и нарушительница порядка немедленно отправилась восвояси. Chambre d’enfans[19 - Детская (фр.).] была окурена благовониями, тщательно вымыта и проветрена. Таким образом, все следы безупречно воспитанной миссис Суини – включая благородный, обладающий возвышенным ароматом напиток, тонко, но фатально объяснивший суть ее преступления, – были безвозвратно удалены с рю Фоссет. Как я уже сказала, событие произошло между тем моментом, когда, подобно Авроре, мадам Бек появилась из своей комнаты, и приятной минутой, когда села, чтобы налить себе первую чашку кофе.
Около полудня я была вызвана, чтобы помочь мадам одеться (так выяснилось, что я стала чем-то средним между гувернанткой и горничной). До полудня она бродила по дому в халате, шали и беззвучных тапочках. Интересно, как бы отнеслась к подобной привычке хозяйка английской школы?
Уход за волосами меня озадачил: густые, пышные, каштановые, без единого проблеска седины, хотя ей уже было сорок. Заметив мое смущение, мадам спросила:
– В своей стране вы не работали femme-de-chambre[20 - Горничная (фр.).]?
Без тени неуважения или раздражения она взяла расческу и, отстранив меня, сама привела волосы в порядок. Что касается других деталей туалета, то мадам Бек направляла меня и помогала без малейшего изъявления недовольства. Должна заметить, что это был первый и последний раз, когда мне пришлось ее одевать. В дальнейшем эту обязанность исполняла привратница Розин.
Одетая по уставу, мадам Бек предстала обладательницей невысокой и полной, однако не лишенной особой, своеобразной грации (то есть грации, основанной на пропорции частей тела), фигуры. На свежем, здоровом, не слишком румяном лице молодо сверкали спокойные голубые глаза. Темное шелковое платье сидело так, как способно сидеть лишь творение французской модистки. Мадам Бек выглядела хорошо, хотя и немного буржуазно. Собственно, она и была представительницей этого класса. Не знаю, что за гармония наполняла ее существо, и все же лицо тоже представляло собой контраст: черты ни в малейшей степени не соответствовали облику подобной свежести и безмятежности. Высокий, но узкий лоб отражал умственные способности и некоторую доброжелательность, но не широту мысли. Спокойные, но внимательные глаза не ведали горящего в сердце огня или душевной мягкости. Рот выглядел жестким – возможно, даже немного угрюмым – из-за тонких губ. Что же касается чувствительности и одаренности со свойственными им попутными качествами – нежностью и безрассудной смелостью, – мне почему-то показалось, что мадам представляет собой Минотавра в юбке.
В дальнейшем выяснилось, что она и еще кое-кто в юбке. Звали ее Модеста Мария Бек, урожденная Кинт, однако с тем же успехом имя могло звучать как Игнасия[21 - Намек на Игнасио Лайолу, главу испанской инквизиции. – Примеч. ред.]. Дама она была великодушная и делала много хорошего, а начальницы более мягкой не существовало на свете. Говорили, что, несмотря на пьянство, небрежность и грубость, невыносимая миссис Суини не получила ни единого выговора и до момента отставки чувствовала себя вполне комфортно. Говорили также, что никого из учителей этого заведения никогда и ни в чем не винили, и все же они часто менялись: просто исчезали, а их место занимали другие, и никто не мог объяснить почему.
Заведение представляло собой как пансионат, так и школу. Приходящих, или дневных, учениц насчитывалось больше сотни, в то время как пансионерок немногим больше десятка. Должно быть, мадам обладала выдающимися административными способностями: подопечными, а также четырьмя учительницами, восемью учителями, шестью слугами и тремя собственными детьми, она управляла без видимого напряжения, шума, усталости, спешки или других признаков излишнего возбуждения, в то же время успевая мило общаться с родителями и родственниками учениц. Она неизменно выглядела деятельной, но редко – занятой. Поистине мадам Бек обладала собственной системой управления огромной массой людей, и система эта отличалась своеобразием: читатель уже видел ее в действии, когда хозяйка не постеснялась вывернуть наизнанку мои карманы и изучить содержание записной книжки. Похоже, она привыкла все держать под контролем.
И все же мадам Бек знала, что такое честность, и ценила это качество, но в тех случаях, когда своей неуклюжей щепетильностью оно не препятствовало ее воле и интересам. Она уважала Англию, но что касается англичанок, то, будь ее воля, не допустила бы уроженок чуждой по духу страны к своим детям и на пушечный выстрел.
Часто по вечерам, после целого дня интриг и контринтриг, подслушивания и подсматривания, докладов своих осведомителей она приходила в детскую со следами глубокой усталости на лице, садилась и слушала, как дочки по-английски читают «Отче наш» или поют тоненькими голосками гимн, начинающийся словами «Милостивый Христос». Маленьким католичкам позволялось произносить слова молитв у моих колен. А после того как я укладывала малышек спать, мадам Бек беседовала со мной (конечно, когда я уже настолько выучила французский, чтобы понимать ее и даже отвечать) об Англии и англичанках. Ей нравилось восхищаться их умственными способностями и настоящей, неподкупной честностью. При этом она проявляла здравый рассудок и излагала очень логичные суждения. Казалось, хозяйка заведения сознавала, что воспитание девочек в строгости без доверия, в слепом невежестве и под постоянным надзором, без минуты уединения далеко не лучший способ вырастить их честными и скромными, однако утверждала, что если применить к детям европейского континента иной метод воспитания, то губительные последствия неизбежны. Они настолько привыкли к строгости, что любое послабление, даже самое осторожное, будет понято ложно и использовано во вред. Мадам Бек заявляла, что ненавидит средства, которыми пользуется, однако вынуждена их применять, и после беседы со мной, часто достойной и даже утонченной, отправлялась бродить по дому, словно призрак, выслеживая и высматривая, заглядывая в каждую замочную скважину и подслушивая под каждой дверью.
В конечном итоге принятая в школе система оправдывала себя – позвольте отдать должное наставнице. Ничто не могло бы надежнее обеспечить физическое благоденствие подопечных. Умы не перенапрягались: уроки разумно распределялись и преподавались доступным, ненавязчивым способом. Существовала свобода развлечений и физической активности, поддерживавшая здоровье девочек. Пища была обильной и добротной: ни бледных, ни истощенных лиц вы бы здесь не встретили. Мадам Бек не скупилась на выходные дни, не жалела времени на сон, одевание, гигиенические процедуры, еду. Ее подход к этим вопросам отличался легкостью, справедливостью, щедростью и рациональностью. Многие суровые английские директрисы поступили бы благородно, последовав ее примеру, и, полагаю, некоторые из них были бы рады это сделать, если бы позволили придирчивые английские родители.
Поскольку мадам Бек управляла с помощью тотального контроля, у нее имелись собственные шпионы и доносчики. Она не брезговала применять для достижения своих целей самые грязные средства. А, найдя не оскверненное кровью и ржавчиной орудие, использовала его рачительно, а хранила бережно, кутая в шелк и вату.
Выгода представляла собой универсальный ключ к личности мадам Бек – главную движущую силу ее поступков, альфу и омегу жизни. И горе тем, кто пытался распространить свое доверие к ней на дюйм дальше черты ее личной заинтересованности. Мне доводилось видеть попытки обращения к ее чувствам и испытывать к умолявшим о снисхождении жалость, смешанную с презрением. Никому не удавалось ни добиться ее внимания таким способом, ни изменить намерений таким путем. Напротив, стремление затронуть сердце неизбежно вело к антипатии и превращало мадам Бек в тайного врага, поскольку наглядно доказывало отсутствие милосердия и напоминало о темных сторонах личности, где она оказывалась не просто слабой, но и мертвой. Никогда ни до, ни после нее различие между благотворительностью и добротой не проявлялось с большей яркостью. Лишенная чувства сострадания, мадам Бек в достаточной степени обладала рациональной щедростью: была готова давать людям, которых никогда не видела, однако скорее классам, чем отдельным личностям. Без сомнения открывала кошелек pour les pauvres[22 - Для бедных (фр.).], хотя для конкретного бедняка держала его плотно закрытым. С энтузиазмом принимала участие в филантропических начинаниях на пользу общества в целом, в то время как чье-то личное горе оставляло ее равнодушной. Ни сила, ни объем страдания, сконцентрированного в одном сердце, не обладали достаточной остротой, чтобы пронзить ее сердце. Ни душевные муки в Гефсиманском саду, ни смерть на Голгофе не смогли бы выжать из ее глаз ни слезинки.
Повторяю: мадам Бек была великолепной, богато одаренной женщиной. Школа представляла слишком узкую сферу применения ее талантов. Ей следовало бы управлять народом, вести за собой непокорную законодательную ассамблею. Никто не смог бы ее запугать, ввергнуть в раздражение, лишить терпения и проницательности. Ей ничего бы не стоило единолично исполнять обязанности премьер-министра и начальника полиции. Умная, твердая, вероломная, скрытная и коварная, бесстрастная, наблюдательная и непроницаемая, сообразительная и бесчувственная (при полном соблюдении благопристойности) – чего еще можно желать?
Благоразумный читатель не предположит, что сконцентрированное ради его пользы понимание характера далось мне за месяц или даже за полгода. Нет! Поначалу я видела лишь пышный фасад крупного процветающего учебного заведения. Моему восхищенному взору предстал прекрасный дом, где счастливо живут и учатся здоровые, жизнерадостные девочки, хорошо одетые и ухоженные, получающие знания с восхитительной легкостью, без болезненного напряжения и напрасной траты сил. Возможно, они и не проявляли заметных успехов в науках, но все же были постоянно заняты, хоть никогда и не переутомлялись. Работа в школе мадам Бек требовала от преподавателей и воспитателей особого напряжения, поскольку на их плечи, а точнее – головы, ложилась основная нагрузка, снятая с воспитанниц. И все же занятия были организованы так искусно, что, едва напряжение оказывалось чрезмерным, коллеги быстро и умело сменяли друг друга. Иными словами, это была поистине иностранная школа, активность, мобильность и многообразие которой составляли полную и очаровательную противоположность многим английским заведениям подобного рода.
За домом располагался обширный сад, так что летом ученицы практически жили среди кустов роз и плодовых деревьев. В жаркие дни мадам Бек проводила время в тени просторной, увитой виноградом беседки, по очереди вызывая к себе класс за классом, чтобы девочки занимались при ней рукоделием или чтением. Профессора приходили скорее читать короткие живые лекции и уходили, а девочки, если хотели, делали заметки, но могли и не делать, если знали, что смогут воспользоваться конспектом подруги. Помимо ежемесячных выходных дней регулярные каникулы в течение всего года обеспечивали католические праздники. Частенько солнечным летним утром или мягким вечером пансионерки отправлялись на долгую загородную прогулку с угощением из пчелиных сот с белым вином, парного молока со свежим хлебом или кофе с булочками. Складывалась чрезвычайно приятная обстановка: мадам воплощала доброту; учителя казались вовсе не плохими – могли бы быть и хуже, – а ученицы, пусть излишне шумные и вольные, выглядели здоровыми и веселыми.
Такой картина рисовалась сквозь дымку пространства, однако настало время, когда она рассеялась, когда мне пришлось спуститься из уединенной башни детской, откуда я до этого наблюдала за происходящим, и ближе соприкоснуться с тесным мирком особняка на рю Фоссет.
Однажды я, как обычно, сидела наверху, слушала, как дети усвоили материал по английскому, и одновременно перелицовывала шелковое платье хозяйки. Мадам Бек неспешно вошла в комнату с тем сосредоточенным, задумчивым выражением лица, который лишал ее облик благожелательности, и, опустившись в кресло напротив, некоторое время молчала. Дезире, ее старшая дочь, читала небольшой рассказ миссис Барболд. Чтобы убедиться, что девочка понимает, о чем идет речь, я то и дело просила перевести предложение с английского на французский. Мадам Бек внимательно слушала, а через некоторое время осведомилась едва ли не обвинительным тоном:
– Мисс, в Англии вы работали гувернанткой?
– Нет, мадам, – ответила я с улыбкой. – Вы ошибаетесь.
– Это ваш первый педагогический опыт – с моими детьми?
Я заверила, что так и есть. Она опять замолчала, однако, вынимая булавку из подушечки, я случайно подняла глаза и обнаружила, что нахожусь под пристальным наблюдением: мадам явно меня рассматривала и оценивала, взвешивая пригодность для какой-то конкретной цели, обдумывая соответствие плану. До этого она подробно изучила все мои возможности и решила, полагаю, что отлично меня знает и все же, начиная с этого дня, в течение двух недель не переставала испытывать: подслушивала у двери детской, когда я находилась там; следовала на безопасном расстоянии, когда я отправлялась с девочками на прогулку, при любой возможности старалась подойти как можно ближе, прячась за деревьями и кустами. Осуществив, таким образом, необходимую предварительную подготовку, она наконец-то сделала свой ход.
Однажды утром мадам Бек появилась неожиданно, словно в спешке, и заявила, что оказалась в некотором затруднении. Преподаватель английского языка мистер Уилсон не пришел на занятия: очевидно, заболел. Ученицы ждали в классе, но провести урок было некому. Не могла бы я в порядке исключения дать им небольшое задание, чтобы девочки не сказали, что их лишили необходимой практики?
– В классе, мадам? – уточнила я.
– Да, в классе. Во втором отделении.
– Где шестьдесят учениц, – добавила я, поскольку знала количество, и с обычной низменной трусостью спряталась в леность, как улитка прячется в свой домик, а чтобы избежать действия, сослалась на отсутствие опыта и знаний.
Предоставленная самой себе, я неизбежно пропустила бы шанс, полностью лишенная как импульса практичности, так и амбиций, смогла бы просидеть двадцать лет, преподавая азы, перелицовывая шелковые платья и создавая по просьбе девочек причудливые наряды. Не стану утверждать, что глупый отказ оправдывался полным довольством: работа не доставляла мне ни интереса, ни радости, – однако отсутствие серьезной тревоги и личных переживаний уже представлялось огромным благом, а свобода от тяжких страданий казалась самым коротким путем к счастью. К тому же нынешнее положение сочетало две жизни: жизнь мысли и реальную жизнь. Если первая питалась странными радостями воображаемого общения с духами умерших, то привилегии второй ограничивались хлебом насущным, работой по часам и крышей над головой.
– Право, – настойчиво проговорила мадам Бек, когда я еще усерднее склонилась над выкройкой детского передника. – Оставьте вы это.
– Но Фифин ждет, мадам.
– Фифин подождет, потому что я жду вас.