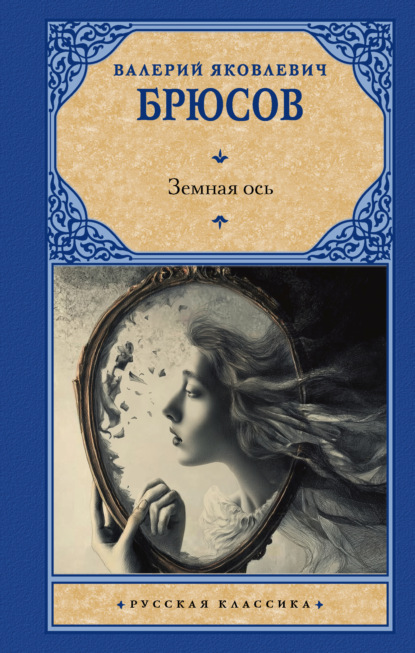
Полная версия:
Земная ось
В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются незанятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до десяти тысяч человек, но большая часть их является людьми неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы номера газет, выходивших в городе до конца июля. Последний из найденных до сих пор, помеченный 22 июля, содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и наконец, – полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитена, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах: везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.
Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до трех миллионов жителей, живет около тридцати тысяч рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.
«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г-на Андрю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.
Не воскрешайте меня!
Научно-фантастический рассказ-памфлетТак как меня предупредили о строгой тайне, которой Теургический институт окружает свою деятельность, то я запасся всевозможными рекомендательными письмами – и поступил предусмотрительно. В канцелярии института подробнейшим образом ознакомились с представленными мною рекомендациями, записали подробно не только мое имя, но также подданство, адрес, возраст, профессию и, наконец, заставили дать подписку в том, что я буду хранить в тайне все, что мне покажут. Если бы не ходатайства весьма влиятельных лиц и не собственные мои, хотя бы скромные, заслуги перед наукой, вероятно, мне тоже не пришлось бы переступить порог загадочного института, как не удалось это армии репортеров, осаждающих его вот уже три месяца, с того самого дня, как в печати проскользнули первые вести о новом, небывалом учреждении.
Заведующий канцелярией института передал меня старшему ассистенту, который потребовал, чтобы я переоделся в особый полотняный халат «во избежание заноса какой бы то ни было заразы», как объяснили мне, но, кажется, просто затем, чтобы лишить меня записной книжки и карандаша. Ассистент поручил меня заботам прозектора: прозектор довел меня до старшего сторожа, и уж сторож указал мне дорогу к кабинету директора. У дверей кабинета мне пришлось выждать еще довольно долгое время, пока, должно быть, наводились обо мне разного рода справки, и только после всех этих искусов открылся для меня вход в приемную директора.
По счастью, с директором мы были несколько знакомы, так как встречались на международных ученых заседаниях. Может быть, поэтому, а может быть, в силу моих рекомендаций директор принял меня весьма любезно: как говорится, рассыпался в извинениях за те затруднения, какие довелось мне испытать, но с важным видом согласился на необходимость строжайшей тайны в деле, «которое может быть превратно истолковано полуобразованной массой», «лицами, лишенными правильной научной дисциплины». Говоря так, директор делал мне честь, исключая меня из числа этих несчастных, недостойных приобщиться к ученым таинствам института. А себя при этом держал отчасти как посвященный в некие великие мистерии, отчасти как «что-то вроде бога, хотя бы и второго ранга».
Директор хотел сразу повести меня осматривать лаборатории института.
– Вы дали подписку о соблюдении тайны? Очень хорошо! В таком случае пойдемте, я вам покажу все, что…
– Извините, – возразил я, – но мне сначала хотелось бы получить кое-какие предварительные объяснения, так сказать, теоретические.
Лицо директора не выразило особого удовольствия при таком проявлении моей научной любознательности.
– Но ведь вам, – ответил он, – в общем известны задачи нашего института. Что же касается методов работы, то я не имею права открывать их.
– Признаюсь вам, что даже в общем задачи института мне весьма неясны.
– Однако об этом столько писалось в газетах…
– Я знаю только то, что институт занимается воскрешением мертвых.
Директор открыто поморщился.
– Да, конечно, такого вульгарного толкования нашей проблемы недостаточно.
– Вот видите, насколько я невежественен!
– Будьте любезны, сядьте. Я сейчас вам объясню в нескольких словах сущность открытия, величайшего из открытий, когда-либо сделанных точным знанием. Дело идет, разумеется, не о «воскрешении мертвых», как пишут малограмотные репортеры, но о восстановлении психических центров, образовывавших ранее личность. Вам ясно?
– Не очень.
– Хотя вы и работаете в другой области науки, нежели мы, однако мне, конечно, нет надобности пояснять вам современную научную точку зрения на значение психических центров. Вы знаете, что пора старого, примитивного материализма давно миновала. О! Вне всякого сомнения, наука осталась позитивной, какой она и будет всегда, пока человек будет мыслить по законам логики! Мы позитивисты в том смысле, что отрицаем всякую мистику, все сверхъестественное. Но зато границы естественного раздвинулись теперь гораздо шире, чем столетие назад. Теперь нам позитивным образом известно, что со смертью тела психический центр, образовывавший личность человека, не уничтожается. Личность, так сказать, переживает смерть. Заметьте, я говорю не о бессмертии души, а о переживании смерти, о пакибытии личности. Это факт, установленный ныне экспериментально…[1]
– Хорошо! Но ведь личность после смерти невидима, невосприемлема.
– В этом вы ошибаетесь. Каким же путем мы установили пакибытие личности, как не сделав ее восприемлемой для наших органов чувств?
– Спиритизм?
– Ах, оставим эти нелепые этикетки! Не спиритизм, а теургия, научно-экспериментальные методы, давшие возможность психическим комплексам, ранее бывшим личностями, влиять на материальные элементы пространства и времени.
Мне еще долго пришлось выуживать у директора скудные пояснения того, что он называл «проблемой Теургического института». В конце концов я добился лишь одного признания: институт какими-то особыми, составляющими его тайну методами придает новую энергию «психическим центрам, составлявшим ранее личность», причем эти личности становятся чем-то материальным, получают весь внешний облик живого существа – человека. Большего я не мог добиться от любезного директора, хотя он и был чрезвычайно словоохотлив, если надо было изъяснять какое-либо школьное правило.
– Лучше всего пойдем прямо в нашу лабораторию, – сказал директор, устав уклоняться от расспросов. – «Посмотри и убедись», как Христос сказал Фоме неверному.
Директор позвал ассистента и сторожа. Они вооружились связкой ключей и предложили мне следовать за ними. Я повиновался, хотя оставался столь же неосведомленным о задачах института, как был, стоя у его порога.
У дверей лаборатории директор остановился и предупредил меня:
– Вы понимаете, что восстановленные личности нуждаются в особых условиях для своего существования. Необходима особо очищенная атмосфера, воздух, приготовляемый искусственно, затем некоторые особые радиоактивные эманации и тому подобное. Поэтому не удивляйтесь, что восстановленные изолированы нами от соприкосновения с внешней действительностью.
Я поклонился в знак того, что удивляться не буду. Я вообще дал себе слово ничему в институте не удивляться. Сторож зазвенел одними ключами, ассистент другими; дверь открылась, и мы вошли.
Лаборатория была погружена в абсолютный мрак. Когда зажгли электричество, я увидел, что нахожусь в обширной продолговатой зале, всего более напоминающей залу музея, паноптикума или аквариума. Вдоль стены стояли огромные стеклянные клетки или ящики, а вернее – аквариумы, герметически закрытые со всех сторон. Таких стеклянных кубов было в комнате двенадцать, по шести на каждой стороне, но девять из них были пусты, а три остальные занавешены темной материей. Около каждой клетки стояли столбики с множеством кнопок, выключателей, распределителей и рукояток, помеченных цифрами и буквами. На верху каждой клетки была дощечка с надписью, словно в больнице над кроватью больного.
– У вас только трое восстановленных? – спросил я.
– О, это вопрос чисто материальный! – возразил директор. – Содержание каждого обходится в колоссальные суммы! Понимаете? Электрическая энергия, радий, искусственный воздух и многое другое! Бюджет института позволяет нам иметь одновременно лишь три объекта наблюдения. Но зато мы постоянно меняем объекты.
– Сколько же времени остается у вас один объект?
– От четырех дней до недели и даже до 10–12 дней, но не более. Да и опыты показали, что долее невозможно удерживать концентрацию восстановления. Она сама собою начинает вновь распадаться. Может быть, в этом виновато еще несовершенство наших методов… Во всяком случае, в настоящее время мы восстанавливаем именно на указанный мною срок.
– Итак, это воскрешение на короткое время! – не удержался я.
– Не будем говорить о «воскрешении», – как-то поморщился директор. – Это совершенно не научный термин!
Чтобы избавиться от дальнейших расспросов, директор поспешно повел меня к клетке № 1. Но я не сдавался:
– Извините мою навязчивость! Но ведь каждый восстанавливаемый пережил целый ряд возрастов. Я не знаю, каким чудом, – при слове «чудо» директор опять поморщился, – та «личность», которой вы сообщаете вашими новыми методами усиленную энергию, обретает материальное воплощение…
– Становится пространственно восприемлема, – поправил меня ассистент.
– Пусть так: «становится пространственно восприемлема». Но в каком же виде предстает она? Младенца? Юноши или девушки? Или взрослым человеком или, наконец, такой, какой была в минуту смерти? Как Деифоб, которого Эней видел в Тартаре с отрезанными ушами и носом?
Я подумал, что директор обидится на мою иронию. Напротив, он подхватил мои слова:
– О да! То была любопытная проблема! И она разрешена исключительно экспериментальным путем! Впрочем, и теоретически можно было предвидеть результаты. Внешность восстановленного есть отображение его собственного представления о самом себе. Вот почему обычно внешность восстановленных соответствует тому моменту их первого существования, в каковой их психика достигала наибольшего развития. Таким образом, возможны объекты в облике человека зрелого возраста, но возможны и в облике старика, не исключена даже возможность и детского облика. Например, при преждевременном развитии интеллекта, примеры чего известны… Но лучше всего обратимся непосредственно к объектам.
Более я не мог сопротивляться. Директор взял меня за рукав того полотняного халата, в который я был облачен, и почти силой повлек меня и пододвинул к самому стеклу. Я прочел надпись на дощечке: «Гегель, профессор философии. 1770–1831 гг.».
– Как?! – воскликнул я невольно.
Директор и ассистент самодовольно улыбнулись.
– Чтобы восстановить личность, – пояснил мне на этот раз ассистент, – мы должны с точностью знать факты ее биографии, особенности ее психики, даже самую ее внешность. Поэтому объектами опытов могут служить исключительно личности выдающиеся, жизнь которых можно проследить. Это же вполне естественно!
– О, конечно, вполне естественно! – поспешил согласиться я.
Директор дал знак, нажал какие-то кнопки, занавески колыхнулись, и за занавесками разлился свет. Потом директор уже готовился отдернуть и занавески, но вдруг остановился и опять обратился ко мне.
– Видите ли, – сказал он, – теургия все же наука молодая, в наших опытах бывают кое-какие недочеты. Я должен предупредить вас, что опыт с Гегелем нам не совсем удался.
– Это оказался не Гегель? – спросил я.
– О нет, нет! Несомненно, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, автор диалектической философии. Дело в другом. А именно: восстановление удалось лишь частично. По-видимому, сам Гегель мыслил себя лишь как лицо и не чувствовал своего тела… Поэтому… Но вы сейчас увидите…
Директор отдернул темные занавески. Я увидел внутренность клетки или аквариума. То была кубическая комната со стенами из толстого стекла, совершенно пустая. Кроме какого-то полукресла-полуложа, стоявшего посредине. На этом ложе лежало что-то серое, какие-то клубы не то одежды, не то густого тумана. Но из этого тумана поднималась человеческая голова, и то был благородный облик, о котором Шопенгауэр говорил в припадке злобы: «Лицо трактирщика, гласящее явно: заурядная башка».
Гегель не то спал, не то был в забытьи. Глаза были закрыты, губы беспомощно отвисли. По лицу ему можно было дать лет 30–35, но была какая-то старческая вялость в коже щек, в веках глаз. То был не труп, но и не живой человек. Что касается тела, то вместо него простиралась неопределенная масса, закутанная в серое, но, присмотревшись, я не без содрогания убедился, что эта масса в своей верхней части слабо вибрирует, как если бы там билось человеческое сердце!
Директор торжествовал и глядел на меня, как триумфатор.
– Мы сейчас разбудим его, – заявил он мне.
Опять были нажаты кнопки, повернуты выключатели, и вдруг лицо лежащего человека шелохнулось, глаза открылись, и на нас устремился бессмысленно тупой взгляд. Гегель смотрел и, по-видимому, старался что-то сообразить.
– Мы заговорим с ним! – воскликнул директор.
Он схватил трубку телефона, висевшую на столбике, поднес к губам и закричал громко по-немецки:
– Господин профессор! Как вы себя сегодня чувствуете?
При этом директор передал трубку мне.
Я смотрел на лицо Гегеля. Он расслышал вопрос, но понял ли его, не знаю. Все же губы на лице шевельнулись, часть тела, соответствующая груди, напряглась, словно легкие делали крайнее усилие произвести звук, и вот до меня долетел глухой, хриплый, неестественный голос:
– Молока бы! – это было латинское слово (точнее: «Немного молока!»).
– Что, что он говорит? – засуетился директор.
– Он просит молока, – ответил я, отдавая трубку.
– Ах, сейчас, сейчас! Завтрак № 1! – распорядился директор, обращаясь к сторожу, а в телефон прокричал по-немецки: – Немедленно получите, господин профессор!
– Неужели восстановленные едят? – осведомился я.
– О, конечно, нет! – ответил мне ассистент. – Мы особыми средствами возбуждаем их силы, а они принимают это как завтрак или обед.
Между тем Гегель опять закрыл глаза и впал в свою тупую дремоту.
– Перейдем к следующему, – предложил директор, задергивая занавески и гася свет.
Я не возражал. Мы подошли к клетке № 2, над которой было надписано: «Нинон де Ланкло. 1616–1706 гг.».[2]
На этот раз я подавил восклицание изумления и только спросил:
– А этот опыт удался вполне?
Директор немного замялся.
– Теургия – наука молодая… Получилась какая-то неправильность в органах дыхания… Короче, объект не может говорить.
«Ну для Нинон не в этом главное!» – подумал я.
Директор отдернул занавески и осветил клетку.
Посредине клетки на ложе было простерто существо. Несомненно, то была женщина. Тело ее было закутано в какую-то зеленоватую материю вроде савана. Ног не было видно. Но зато выступали две руки – изящества и нежности изумительной. Ах, если теургия чем-либо может гордиться, то восстановлением этих двух рук: такой чистоты линий, такого совершенства форм я не знаю ни у одной античной статуи! А при всем том это были руки живого существа, живой женщины…
Но лицо… Нинон, когда ее осветили, тоже спала. Было несомненно, что перед нами лицо молодой женщины, и вместе с тем свежая кожа была стянута чудовищными морщинами. И было что-то до ужаса отвратительное в этом сочетании молодого тела и старческих морщин! Была ли красива спящая? Нет, даже забывая ее морщины, нельзя было забыть мертвенности, больше того – трупности ее лица. То была не восковая маска, не лицо только что умершей красавицы, но мумия. Чудесно сохраненная и все же пролежавшая целые столетия. Хотелось закрыть глаза, чтобы не видать этого унижения красоты!
Но директор не замечал моих впечатлений. Напротив, он ликовал все более и более.
– Хотите поговорить с ней? – спросил он меня. – Она не может нам отвечать, но все слышит.
Взяв телефон, он спросил по-французски:
– Здравствуйте, мадам де Ланкло!
Лежащая женщина открыла глаза – мутные, вялые. Мгновение она смотрела на нас, потом медленно, видимо, с трудом подняла свою очаровательную ручку и поднесла ее ко рту.
– Что это? – спросил я. – Она жалуется, что не может говорить?
– Нет, – возразил ассистент, – она просит есть.
Я готов был бежать из института. Мне казалось, что я видел достаточно. Но директор теперь уже сам не отпускал меня.
– А наш третий объект? Вы не хотите взглянуть на него? О, это один из самых смелых экспериментов!
Необходимо было согласиться. Я подошел к клетке № 3. На ней была надпись: «Иуда Искариот. I век н. э.». Директор задыхался от торжества:
– Подумайте, какой триумф науки! Нас отделяют две тысячи лет, и восстановление достигнуто, достигнуто!
Занавески сдернуты, клетка освещена. Перед нами черноватая груда вещества, в которой лишь с трудом можно различить человеческое лицо, руки, туловище, ноги… Эта груда колышется, двигается, трепещет.
– Восстановление несовершенно, – торопится заявить директор, – но ведь две тысячи лет!
Он передает мне трубку телефона. Я подношу к уху и слышу не то стон, не то хрип.
– Что это? Он тоже просит есть?
– Нет. Он так целые дни стонет, когда в сознании, непонятно почему. Может быть, что-либо неправильно восстановлено во внутренних органах. К тому же ведь биография Иуды нам известна далеко не во всех подробностях…
Я не слушаю дальше. Я почти бегу из лаборатории. Скорее, скорее на волю, к живым людям!
Когда я прощался, благодарил директора и ассистента за их любезность и предупредительность и выражал, как того требовала вежливость, свое изумление и свой восторг перед великим торжеством науки, оба члена института наслаждались моими словами как должной данью. Если бы я зажег ладан и воскурил благоухание перед директором, как перед иконой, он, вероятно, не удивился бы, но на самое прощание я сказал:
– Однако у вас в институте недостает одного отдела.
– Какого? Мы всегда готовы расширять наше дело. О, оно только еще начинается! Перед ним грандиозные перспективы!
– Несомненно, несомненно. Поэтому-то и необходим тот отдел, о котором я говорю.
– Какой же это отдел?
– Отдел приема прошений от тех лиц, которые заживо пожелают поставить условием, чтобы Теургический институт никогда не восстанавливал бы их своими методами. Я по крайней мере буду первым, кто подаст такое заявление. Убедительно прошу вас меня научными способами НЕ ВОСКРЕШАТЬ!
Рассказ Маши, с реки Мологи, под городом Устюжна
Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних жуликов и боишься, а у нас в деревне как худо: и дворовые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе дворовой живет, а домовой в доме; дворовой с лица, как хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть могут, кто после девяти на двор к лошадям выйдет. Так нельзя выходить, надо кашлять. А то вот отец раз вышел на двор и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладает. (Он лошадь нашу очень любит, все ей косу заплетает; косу длинную заплетет. А корову невзлюбил, языком ее всю против шерсти вылизал.) Домового реже видать можно, и в своем виде он редко показывается. А вот на печке спать одной страшно: придет ночью шерстнатый, давить будет. А баечника худо увидать, он сердитый, не любит, чтобы ему мешали. Старуха поздно вечером парилась, после всех; вдруг в дверь стучат. Она думала, это ее невестка, и говорит: «Входи, входи, я тут одна моюсь». А никто не входит, и в дверь все стучат. Он, значит, париться пришел, она ему мешает. Он уж под конец рассердился, стал дверь отворять и затворять: просунет голову и спрячет. Старуха увидала, что шерстнатый пришел, испугалась до смерти, кричит ему: «Батюшка, батюшка, погоди, я сейчас». Сбежала с полка и без памяти, как была, рубашки не надела, побежала на деревню, дорогой на сук наткнулась, глаз себе выколола, теперь кривая ходит. Вы, барышня, сами поезжайте, увидите: теперь кривая ходит. Спать в бане совсем худо. Если кто с крестом, того, конечно, баечник задавить не может, так только походит, потолкает, потому что он тоже спать в бане пришел, а они ему мешают.
Леший очень худой, это уж самый худой. Раз девушки коней пасли, ночью. И вздумали ночью слушать пойти. Кресты сняли и пошли за лес на опушку и стали всех нехороших призывать. Услыхали гул, все ближе, ближе. Им бы сказать: «Чур, пока полно», а они все не говорят, все больше, больше призывают. Потом видят, идет на них копна сена и в середине как кочерга, и вся огнем горит. Горит не прямо, а все кружится, вьется. Они закричали: «Каравул, каравул!», побежали на деревню, прибежали на беседу, кричат, что за ними копна горящая гонится. А на беседе старуха-колдунья была. Она им говорит: «Плохо ваше дело, девицы, он непременно сюда придет, вы наденьте на головы горшки и сядьте. Он как вас ударит по горшку, вы и валитесь». Пришел нехороший в избу, стал по избе кружить. Нашел девушек, ударит по горшку, они и валятся, он и думает, что им голову разбил. Тем только и избавились.
А русалка у нас, барышня, каждую ночь на кладбище на камне сидит. Вот сторож церковный, когда ходит к утрене звонить, каждый раз ее видит. Волосы длинные-длинные и расчесывает большим гребнем. А еще у нас в реке камень есть, мы раньше туда купаться ходили, не знали, что там русалка сидеть любит. А вот наши мужики шли раз тихо, она их и не заметила. Подошли, а она сидит на камне и волосы расчесывает. Увидала их, глаза у нее большие, черные, – испуганная, и сразу нырнула в воду.
Ой, барышня, а как у нас в деревне нехорошо делают. На Святках (Святки у нас длинные, у нас в деревне, у деревенских, от Николы до Рождества, а в городе, у городовых, от Рождества до Крещения) слушать ходят. Вечером пойдут девицы на беседу. Потом которая-нибудь скажет: «Пойдемте слушать». Сейчас они кресты снимут, на гвоздь повесят. Такие там, в избах, где беседы, (гвозди) вбиты по стенам. Сядут, кто на кочергу, кто на ухват, кто на сковородник, и поедут на перекресток. Там сделают дорогу: три полосы по снегу проведут. Встанут и начнут всех нехороших призывать: «Черти, дьяволы, лешие, водяные, русалки, домовые, баечники, перебаечники – приходите и покажитесь нам». Тогда услышат звон колокольчика. Когда уж он близко будет, надо кричать: «Чур, пока полно». Рано нельзя кричать – ничего и не будет. А если поздно крикнуть – проедут и задавят. Если же вовремя скажут, проедут мимо, скоро-скоро, на хороших конях, нарядные кавалеры; все в белых высоких-высоких острых шапках, и с шапки на лицо и сзади длинные желтые кисти висят. Старые с длинными бородами, молодые без бороды. Проедут и прозвонят колокольчиком каждой девице, сколько ей лет замуж не выходить.
А еще слушать ходят к бане, на колокольню руки протягивают, кто за руку схватит – суженый ли, нет ли. Худо, если шерстнатый за руку схватит.
А как у нас в деревне худо: колдунов сколько! Они, колдуны, молитвы говорят и берут на себя их, кто сколько, много берут. Если сорок кто возьмет, то это у них ни за что считается, а берут несколько сот, несколько тысяч. И уж они колдунам покою не дают ни днем, ни ночью, все нужно, чтобы колдун с ними говорил. У нас, когда колдун приходит, его пивом угощают, боятся, чтобы он порчи не напустил. Раз колдун у нас ночевал, так я сама слышала, как он с ними говорил. Тятя ему говорит: «Да спи ты, дядя Михайло!» Он говорит: «Я сплю, я сплю». А потом: «Срубите елок, срубите елок». А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют: «Сколько елок, сколько елок, сколько елок?» – «Десять елок, десять елок». Они скоро-скоро назад придут и опять спрашивают: «Мы срубили, мы срубили. Что нам делать? что нам делать? что нам делать?» – «Кирпичи делать». – «Сколько тысяч? сколько тысяч?» Он скажет, сколько тысяч. Они опять скоро вернутся: «Мы сделали, мы сделали». – «Хорошо ли сделали?» – «Хорошо сделали. Что нам делать? что нам делать?» Он и в церковь войдет, только успеет сказать: «Господи Иисусе Христе, Пресвятая Богородица», а они опять его спрашивают, не дают в церкви стоять. А перед смертью их надо кому-нибудь отдать, а то они помереть не дадут, как ни мучайся.



