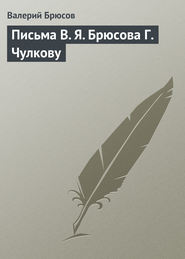 Полная версия
Полная версияПисьма В. Я. Брюсова Г. Чулкову
6
Признание Брюсова, что он и его соратники по «Весам» вовсе не символисты, чрезвычайно любопытно и выражено с достаточной определенностью: «мы ни в коем случае „символистами“ себя не считаем». Что касается самого Брюсова, то это заявление совершенно точно, и понимание его как символиста было основано на недоразумении. Если его трудно причислить к символистам в том смысле, в каком этот термин принимался школою французских символистов, то уже совершенно невозможно считать его символистом в более глубоком смысле, присоединяя его имя к именам Тютчева, Влад. Соловьева или Фета.
7
Выражение Бодлэра «Le gout de I'infini» («Вкус вечности» (фр.)) взято из его книги «Paradis artificiels».
8
Дмитрий Владимирович Философов был в это время официальным редактором «Нового пути».
9
Серп Алекс. Поляков – издатель «Весов» и «Скорпиона».
10
«Поручение» заключалось в том, что я просил Брюсова возложить от редакции «Нового пути» венок на могилу А.П. Чехова.
11
«Гниль» – повесть Вацлава Берента. Она печаталась в «Новом пути» с заглавием «Гниение» – по-польски «Prochno», в переводе В. Высоцкого.
12
Об истории «Кинжала» см. мои воспоминания. Журн. «Искусство». М., 1925. N 2, стр. 241–256. Письмо Брюсова ко мне, в котором он высказывает опасение, как бы пресса не истолковала опубликование этого стихотворения как уступку духу времени, утрачено: часть моего архива погибла вместе с библиотекою в 1920 году в Царском Селе (ныне Детском Селе). – «Кинжал» был напечатан в «Новом пути» в октябрьской книжке за 1904 год по рукописи 1901 года.
13
Зинаида Николаевна Гиппиус передала в редакцию «Вопросов жизни» перевод «Ворона», сделанный Брюсовым, и этот перевод был напечатан в январской книжке журнала.
14
Стихотворение «Ахиллес у алтаря» («Знаю я, во вражьем стане…») было напечатано в мартовской книжке «Вопросов жизни».
15
Мирэ – Александра Михайловна Моисеева (1874–1913), сотрудница «Вопросов жизни», «Перевала» и др. изд., автор небольших новелл. Первая ее книжка «Жизнь» вышла в Нижнем Новгороде в 1904 году (о ней рецензия А.А. Блока в «Вопросах жизни», 1905, N 7). Вторая книжка «Черная Пантера» вышла в Москве, в изд. «Гриф». Некролог П. Юшкевича в газете «День» 9 декабря 1913 г. и некролог Семена Юшкевича в «Одесских новостях», 1913, 13 декабря.
16
По-видимому, Валерий Брюсов говорит здесь об одном из утраченных ныне его писем ко мне.
17
Переводы песен Метерлинка были первоначально напечатаны в июльской книжке «Нового пути» за 1904 г. В 1905 году они вышли в Москве в изд-ве В.М. Саблина с рисунками Шарля Дудлэ. Эти переводы вошли и в IV сбор, моих сочинений, изданных «Шиповником».
18
Рецензия Вяч. Иванова появилась в июльском нумере «Весов» за 1905 год. В том же нумере Брюсов напечатал свою обстоятельную статью по поводу моих переводов и присоединил образцы своих переводов тех же метерлинковских песен.
19
Н.И.С. – Нина Ивановна Соколова. (Нина Петровская), беллетристка, сотрудница «Перевала» и некоторых других изданий. Умерла в Париже в 1928 году.
20
«Зори» Верхарна были напечатаны в моем переводе в одиннадцатом сборнике «Знания».
21
Статья Брюсова «Фиалки в тигеле» была напечатана в июльском нумере «Весов» за 1905 год.
22
Д.С. – Дмитрий Сергеевич Мережковский.
23
В сентябрьской книжке «Вопросов жизни» было напечатано три стихотворения Брюсова – «Одному из братьев», «Грядущие гунны», «К счастливым». К циклу этих пьес было сделано примечание от редакции: «Три стихотворения Валерия Брюсова, также посвященные современности, – „Близким“, „Знакомая песнь“ и „К ним“ – мы не могли поместить в этом нумере по не зависящим от редакции обстоятельствам».
24
Брюсов пишет о своем стихотворении «Знакомая песнь». Оно было напечатано в N N 10–11 журнала, вышедшего тогда уже без предварительной цензуры. Запрещенная строфа читается так:
Это колокол вселеннойС языком из серебра,Что качают миг мгновенныйРобеспьеры и Мара.25
А.М. – Александра Михайловна Моисеева. См. письмо Х-е.
26
Относительно А.С. Ященко см. примечание четвертое (второе письмо).
27
Статья «Фиалки в тигеле». См. прим. 21 (шестнадцатое письмо).
28
Насколько я припоминаю, редакция «Вопросов жизни» предложила Брюсову выбросить последнюю строфу стихотворения, которая читалась так:
И снова все в веках, далеко.Что было близким наконец –И скипетр Дальнего Востока,И Рима третьего венец.29
Все четыре стихотворения появились в «Вопросах жизни» N N 10–11. Этот двойной нумер вышел без цензуры «явочным порядком».
30
И сопровождающее их, довольно важное письмо.
31
Мое сообщение о запрещении цензурою трех стихотворений Брюсова.
32
В «Гуннах» цензура вычеркнула строфу:
Поставьте, невольники воли,Шалаши у дворцов, как бывало,Всколосите веселое полеНа месте тронного зала.33
Заглавие «Из современности» удалось сохранить.
34
В неосуществившемся сборнике «Огни» должны были участвовать: Валерий Брюсов, Бор. Зайцев, Вяч. Иванов, Ив. Новиков, А.М. Ремизов, Ф. Сологуб и др. Об этом сборнике было объявление в девятом нумере «Вопросов жизни». Вместо «Огней» вышел другой сборник «Факелы».
35
«Вопросы жизни» прекратились в 1905 году.
36
Роман, над которым тогда работал Брюсов, – «Огненный ангел».
37
Это пятое письмо (Сообщаю потому, что не совсем верю почте).(В.Б.)
38
Об этих трех пьесах см. примечание 29-е. Все три пьесы появились в двойном нумере (октябрь – ноябрь) «Вопросов жизни».
39
Брюсов недоумевает, каким образом Минский, автор мистического учения о мэонизме, оказался во главе социал-демократической газеты «Новая жизнь».
40
Насколько я припоминаю, здесь идет речь об издании переводов Верхарна, которое мне предложило какое-то петербургское издательство, а я – кажется – хотел передать это предложение Брюсову.
41
«Факелы». Книга первая. СПб., 1906. В сборнике приняли участие – Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Городецкий, П.С. Соловьева, Ив. Бунин, Леонид Андреев, Конст. Эрберг, А. Ремизов, Л. Зиновьева-Аннибал и др.
42
Моя рецензия на 10-й сборник «Знания» утрачена, и я не помню, как и что я писал о пьесе Леонида Андреева. Возможно, что в 1906 году я написал об Андрееве более сочувственно, чем он того заслуживал.
43
Заметка о «Факелах» появилась в майском нумере «Весов» (1906, N 5) за подписью – Аврелий. Брюсов рассматривает сборник «Факелы» как попытку создать новую «литературную школу». Навязав редакторам «Факелов» это задание, которого они вовсе не имели в виду, автор заметки удивляется, почему в «Факелах» появились писатели разных литературных направлений. В «Факелах» в самом деле были напечатаны произведения не только самого Брюсова, Федора Сологуба, Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова, но и таких писателей, как Ив. Бунин, П.С. Соловьева, Леонид Андреев… «Кто пользуется старыми мехами, – пишет Брюсов, – не заставляет ли заподозрить, что вино у него не очень новое?» – Любопытно, что за исключением двух-трех имен почти все «опороченные» Брюсовым писатели были также участниками «Северных цветов», альманаха, который выходил под его редакцией.
…«Программа „Факелов“ – по словам Брюсова – не только нежизнеспособна, но и невыполнима совершенно. Она в сущности отвергает всякое искусство. Если смело идти до последних выводов в отрицании „внешних обязательных норм“, придется отрицать и существующие формы литературных произведений как данные извне. Формула „Я мира не приемлю“ выбрасывает за борт весь материал художественного творчества: весь мир»… «Конечно, при таком толковании „неприятие мира“ превратилось в политическое революционерство»…
В следующем июньском нумере «Весов» (1906, N 6) появился ответ Брюсову, написанный Вячеславом Ивановым «О Факельщиках и других именах собирательных»: «С изумлением, – пишет Вяч. Иванов, – прочли мы, „Факельщики“, что сообщает о нас Аврелий. Много неожиданного узнали бы мы о себе из этих сообщений и, конечно, радовались бы, что нам открылся новый источник самопознания, если бы общий закон человеческого познания не ставил условием усвоения преподаваемых идей – присутствие в них логической связи»… «В недоумение поверг нас обычно чуждый алогизма и аффекта Аврелий. Прежде всего мы узнаем от Аврелия, что образуем новое течение в литературе, до известной степени новую литературную „школу“. Что же, однако, – „течение“ или „школу“? Ведь это не одно и то же. „Новый путь“, например, представлял некоторое течение религиозно-философской мысли в литературе; но можно ли сказать, что „Новый путь“ был новою литературною школою?.. И с „Факельщиками“ Аврелию лучше было бы сначала условиться, притязают ли они быть новою литературного „школою“… – Тогда бы он с своим алогическим вопросом: каков ваш эстетический принцип? Назовите основоположительные творения вашей художественной школы и т. д., – не оказался жертвою комического qui pro quo(Недоразумение (фр.)). Я говорю „комического“, потому что с этими вопросами он обращается к своим же собратьям по „Весам“ и потому, что требует „новых имен, новых сил“, долженствующих будто бы ознаменовать собою новое начинание»… «Но, во-первых, я – скорее новое, чем старое „имя“, во-вторых – данная идея родилась в моей голове, поскольку она не стара, как богоборствуюшее человечество, как Иов, или, по крайней мере, как Иван Карамазов, в-третьих – недаром же мое стихотворное вступление к „Факелам“ имеет эпиграфом строки из моей первой книги лирики. Кто читал ее, знает тот круг моих идей, который делает меня своим среди „Факельщиков“. О Г. Чулкове, зачинателе „Факелов“, можно сказать то же самое: он – „новое имя“. Факелы с точки зрения художественной школы эклектичны – открыто и прямо…»
44
В журнале «Адская почта» я только числился ближайшим сотрудником. В редакции я никакого участия не принимал и не печатал там ни одной строки.
45
Книга «Кремнистый путь» вышла в издательстве В.М. Саблина в 1904 году. Я жил в это время в Нижнем Новгороде. Незадолго до выхода этой книжки я послал в рукописи свои стихи Брюсову. Валерий Яковлевич в письме дал о них свой отзыв, весьма суровый, но, пожалуй, справедливый. К сожалению, это письмо утрачено. В нем, между прочим, он признается, что некоторые мои строки и строфы он «повторяет неустанно», но совершенных стихотворений у меня, по его мнению, почти нет.
И в самом деле он указывал на целый ряд технических промахов и недостатков. Вместо того чтобы скромно признать справедливость критических замечаний старшего собрата, я ответил Брюсову заносчиво и высокомерно и послал ему стихотворение «Поэту», где были злые строки по его адресу – «Поэт сомнительный разрушенных могил…». Эта бестактность не могла не раздражить В.Я. Брюсова. Он напечатал в первом же нумере «Весов» очень резкую рецензию на мою юношескую книгу, действительно формально плохую. Впрочем, рецензия оканчивалась осторожною фразою: «Георгий Чулков не безнадежен. Может быть, он будет поэтом…». Эта рецензия появилась за подписью – Аврелий. См. «Весы», 1904, N 1, стр. 70–71.
46
«Последняя книга», о которой пишет Брюсов, – моя книга «О мистическом анархизме» со вступительною статьею Вячеслава Иванова «О неприятии мира». Она была издана издательством «Факелы» в Петербурге в 1906 году.
47
Стихотворение «Я на темных полях до рассвета блуждал…» я взял из «Весов» и напечатал его в журнале «Перевал», без посвящения Гюнтеру. Почему я снял посвящение Гюнтеру, не помню.
48
Книжка «Анархические идеи в драмах Ибсена» была издана из-вом «Шиповник» в 1907 году.
49
Мой доклад в кружке, если не ошибаюсь, назывался «Об утверждении личности».
50
М.Ф. Ликиардопуло – секретарь «Весов».
51
Мною было послано в средине апреля 1907 года письмо в «Весы» с просьбою вычеркнуть мое имя из списка сотрудников.
52
Упрек В.Я. Брюсова на этот раз был неоснователен: никакого разоблачения частной переписки я не делал. В моей рецензии встречается только одна латинская фраза, которую действительно Брюсов употребил в своем письме ко мне от 19 января 1907 года, но эта фраза никак не может быть отнесена к категории чего-нибудь интимного, на что Брюсов как будто намекает, называя мою цитату «приемом, совершенно недопустимым в литературе». Что касается моей рецензии, то по существу она была весьма жестока и прозвучала неожиданно, ибо тогда Брюсов считался «безупречным» и его, не смущаясь, именовали вторым Пушкиным. Эта моя рецензия на книгу рассказов Брюсова «Земная ось» была напечатана в «Перевале», 1907, N 4, стр. 64–65. Я тогда писал: «Новая книга Валерия Брюсова – итог десятилетней работы. Она свидетельствует о похвальном трудолюбии автора. Впрочем „Земная ось“ художественной ценности не представляет никакой. По справедливому признанию самого Брюсова, все рассказы в этой книге являются подражаниями то Эдгарду По, то Анатолю Франсу, то Пшибышевскому… Нельзя только согласиться с мнением автора, что „даты, поставленные под рассказами“, показывают, что в его „опытах“ есть „движение вперед“. Начать с подражания гениальному Эдгарду По и кончить подражанием вульгарному Пшибышевскому: это ли движение вперед?
Но, несмотря на художественное бессилие этой книги, она представляет значительный интерес. „Земная ось“ любопытный психологический документ. Подобно тому как кассовая книга разорившегося банкирского дома своими мертвыми цифрами говорит сердцу о тайной драме, о крушении какой-то большой нелепой постройки, созидавшейся годами, так и „Земная ось“ напоминает нам о крушении некоторого миросозерцания. Банкротство уединенной души – вот итог десятилетней работы.
Теперь, когда Брюсов сам себя увенчал „Венком“, когда заслуги его оспаривают только захолустные провинциалы, когда кадеты и „кадеты“ знают и любят его стихи, своевременно не только восхвалять его дарование, но и откровенно говорить об отрицательном значении этого писателя как представителя известного миросозерцания. Это миросозерцание определяется как ложный индивидуализм, т. е. такой „индивидуализм“, который по своей религиозно-философской слепоте мечтает утвердить себя вне общественности. Отсюда – бескровность, бездушие и реакционность того „искусства“, которое связывает себя с этим внешне понятным индивидуализмом. Отсюда и близость такого искусства к тому механическому началу, к той ренегилевской эквилибристике и неумной пшибышевщине, которые так милы сердцу европейского мещанина-эстета. „Земная ось“ – книга механическая по преимуществу. Ее части так же механически крепко сделаны, как железные брусья башни Эйфеля. И вот теперь, вместо того чтобы бежать от кошмара железных брусьев, которые вовсе не пронизывают, как ось, страдающую Землю, а просто глупо торчат на поверхности посреди шумного рынка, Брюсов готов – по-видимому – сказать себе: Sta, miles, hie optime manebimusl Разве „optime“? Это уж самоубийственно.
Я говорю не столько о литературной школе, сколько о той „религии“, которая скрывается за брюсовской литературой. Я сомневаюсь – впрочем – религия ли это…»
И далее:
«Здесь один только мастер – Смерть. Но это не та Незнакомка, что чаровала и чарует поэтов всех времен, а просто бутафорский мертвец.
С таким разлагающимся спутником-двойником не победишь мира, как Цезарь, а разве только создашь две-три новые башни во вкусе Эйфеля на стогнах купеческого града Москвы.
И какие нестрашные эти башни! Вот Пиранези тоже был пленен мрачной поэзией башен, винтовых лестниц, траурных галерей и темных орудий пыток, – но то был Пиранези: он знал их тайну, ведал их чары…
Что еще поражает в книгах, подобных „Земной оси“, – это – неискушенность их авторов: за „ужасным“ лицом и „наполеоновской“ позой вдруг открывается благонамеренный потомственный почетный гражданин; за гимном „утонченному“ разврату – невинные и скучные грехи обывателя; за „дерзновением мысли“ идейная импотенция.
И это в то время, когда русская литература приближается к Музыке, становится событием, „Нечаянной Радостью“… Искусство порождает действие и действием созидается. А московское декадентство все еще живет поверхностным самолюбованием, не ведая Эроса и кокетничая „мрачным“ сладострастием».



