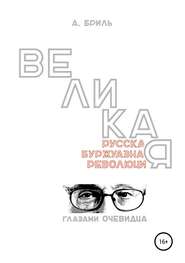
Полная версия:
Великая русская буржуазная революция глазами очевидца
2. На вверенной феодалу территории должен поддерживаться порядок. Народ не должен бунтовать.
3. На вверенной феодалу территории должны производиться определенные товары и услуги, генерироваться доход. Согласованная часть этого дохода по оговоренной процедуре должна передаваться в королевскую (центральную) казну.
4. В случае возникновения внешней военной или внутренней угрозы королевской власти на вверенной феодалу территории собирается всенародное ополчение для безоговорочной трудовой, военной и моральной поддержки короля и государства.
Если эти четыре пункта в процессе службы выполнялись князем Владивостокским, маркизом Бурят-Агинским, герцогом Ленинградским и другими членами советской номенклатуры, то на вверенной территории они – полноправные хозяева проживающего там населения. Судили, закрывали или, наоборот, широко раскрывали глаза на правонарушения, распоряжались ресурсами, подбирали и передвигали кадры, следили за порядком, решали, что является идеологически правильным или неправильным. В общем, были носителями знаний, что такое хорошо и что такое плохо, и вершителями судеб с самыми широкими полномочиями. Они становились носителями права, закона.
И их уже нельзя было посадить в лагерь или убить без суда и следствия. Их можно было судить только партийным судом – а это суд административный, сословно-феодальный, судивший по партийным нормам, а не по законам СССР, действующим для всех остальных. Все проступки, кроме нарушений ленного договора (по сути – партийной дисциплины), этот суд мог легко простить. Наказанием обычно был партийный выговор (с занесением или без занесения в личное дело). Сегодня это штука непонятная и экзотическая. Но тогда работало как неотвратимый жирный минус в резюме. Самым строгим наказанием был перевод на менее ответственную и значимую работу в рамках номенклатурной иерархии (что-то вроде ссылки в деревню или удаление от царского двора в феодальной монархии) или отправка на пенсию.
Рабство отменялось путем ликвидации системы ГУЛАГа в ее сталинском виде. Из лагерей была выпущена основная масса заключенных. До конца жизни они были поражены в правах и несли клеймо преступников, но стали лично свободными, хотя многие были ограничены в передвижении по стране, выборе работы и места проживания.
Рабство перестало быть экономически значимым сектором экономики. Основой дохода и прибавочного продукта осталась барщина, т. к. крепостное право в городе и деревне было сохранено.
В медиапространстве для общественного мнения было проведено аккуратное осуждение сталинских перегибов, объявлено о восстановлении в каноническом виде единственно верной религии – марксизма-ленинизма и объявлено о новом окончательно справедливом походе к светлому будущему всего человечества – коммунизму.
Огромный величественный линейный корабль «СССР» совершил поворот и двинулся на всех парусах в космос, холодную войну, гонку вооружений, экономическое соревнование с Западом во главе флотилии стран мировой социалистической системы. Под прикрытием «железного занавеса»[6].
В середине 80-х гг. назрел очередной кризис.
Как-то незаметно в «железном занавесе» образовались дырки, через которые советские люди неожиданно для себя узнали, что они – победители во Второй мировой войне и жители самой передовой страны в мире – живут хуже (в первую очередь в материальном отношении), чем проигравшие в этой войне немцы, итальянцы, японцы, чем младшие союзники по социалистическому лагерю – поляки, венгры, югославы, восточные немцы.
Второй неприятной новостью стало то, что доходов от барщины стало катастрофически не хватать на гонку вооружений, распространение социализма и коммунизма в странах третьего мира, на производство и распределение среди советских людей продуктов питания, одежды, обуви, необходимых потребительских товаров. Советские люди стали очень плохо (непроизводительно, с низким качеством) работать в системе феодальных отношений, плохо отрабатывать барщину. Это был самый настоящий экономический кризис. Страна стала стремительно залезать в долг к идеологическим противникам и критически зависеть от импорта продовольствия, ширпотреба, оборудования и технологий с Запада.
Попутно отметим, что крепостное право в сельской местности в его наиболее жесткой незавуалированной и оскорбительной форме было отменено в 1974 году с окончательным возвращением крестьянам паспортов и формальным разрешением свободно перемещаться по стране.
Третьим аспектом кризиса стал кризис веры. Веру в коммунизм и социализм как наилучшую систему жизни, единственно справедливую, обеспечивающую материальное равенство всех и равенство всех перед законом, подорвала система привилегий, в первую очередь – закрытые распределители продуктов и потребительских товаров для партийной и советской номенклатуры и ее фактическая неподсудность в рамках советской юридической системы. Все это представляло собой социальное и экономическое расслоение общества, которое в догматах коммунистической веры – идеологии постулировалось недопустимым.
Наконец, в середине 80-х годов стал абсолютно виден и неоспорим результат многолетней отрицательной селекции в партийном и советском аппарате. На руководящих постах образовалась критическая масса людей, не обладавших необходимыми профессиональными компетенциями и человеческими качествами для эффективного, результативного управления экономикой и общественными процессами огромной страны. Особенно удручающим было положение в самом верхнем эшелоне власти. Члены Политбюро ЦК КПСС и генеральные секретари первой половины 80-х гг. представляли из себя кучку престарелых, смертельно больных маразматиков, которых уже никто не боялся и не уважал. Их даже не жалели. Над ними смеялись. А власть, которую не боятся, которую презирают и над которой смеются, – это основа революции.
В руководстве КПСС, в советском аппарате понимали грозную необходимость перемен, но в соответствии с монархическими правилами были вынуждены дожидаться естественной смерти всех законных наследников престола старой династии. Опасная потеря времени, но господство регламента, ритуала, косность системы и ситуативное распределение сил во власти не дали другого выбора.
Наконец, после последовательной смерти Брежнева, Андропова и Черненко в 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. Горбачев. С ним пришла группа руководителей нового поколения и состава.
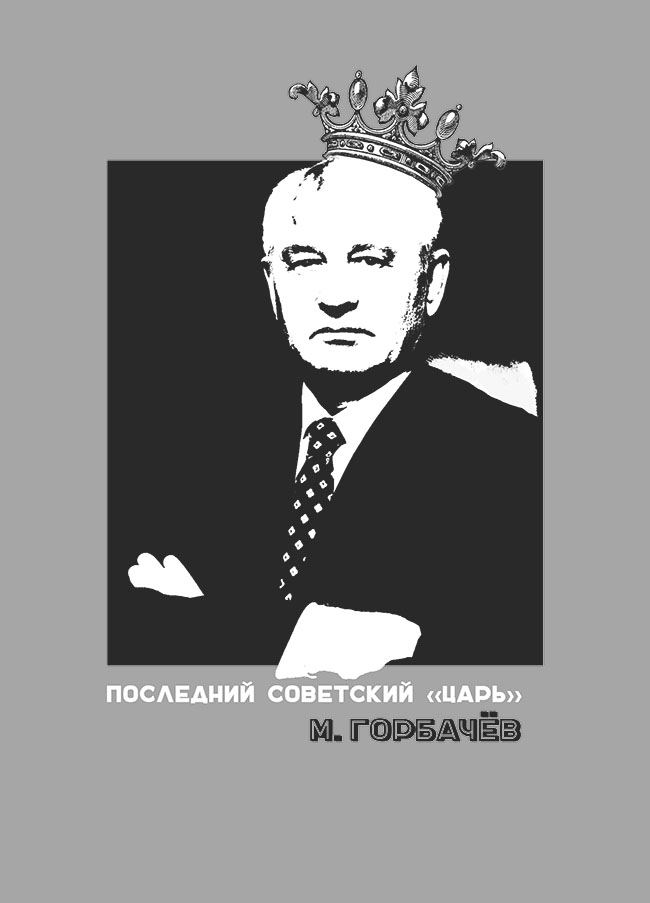
Были объявлены перестройка и гласность: демократические реформы – свобода слова, собраний и т. п., равенство перед законом – обещали бороться с привилегиями, заговорили об открытости власти и «социализме с человеческим лицом». Это улучшило моральную обстановку в обществе и отношение к верховной власти. Горбачев стал фантастически популярен.
Но оставалась нерешенной самая главная проблема: фактическое банкротство страны, катастрофический экономический кризис, который углублялся с каждым годом и каждым месяцем. Неловкие движения вроде антиалкогольной кампании только усугубляли положение. Стало ясно, что Высшая партийная школа – абсолютно недостаточное экономическое образование для руководителей страны. И снова, как раньше, начальники собрали совет мудрецов. Собрались ученые из Института США и Канады, Института экономики мировой социалистической системы, МГУ, советники и помощники из аппарата Политбюро ЦК КПСС.
«Что делать?» – спросило перепуганное начальство, стоявшее на краю экономической бездны. Мудрецы степенно ответили: «Да, распустился народ. Раз не хотят как следует работать на барщине, стимула у них нет, – пусть-ка платят оброк[7]. Разрешим им частный бизнес, раз уж во всем мире это такое прибыльное и эффективное дело. Пусть открывают автосервисы, столовые, швейные мастерские. Конечно, командные высоты в экономике – заводы, банки, инфраструктуру – оставим в своих руках. Но в сферу обслуживания их пустим. Да и теневиков-цеховиков[8] наших тоже оброком обложим вместо того, чтобы их сажать».
Опытные люди из КГБ, МВД, прокуратуры резонно возразили: «Так не станет никто заниматься частным бизнесом. Мы же за это расстреливаем. Обещаниям, что расстреливать и сажать не будем, не поверят. НЭП еще помнят. Гарантий потребуют, гады».
«Да, – согласились умные советские хозяйственники, – народ у нас бывалый. Знают, что нужно будет придти к князю (секретарю обкома, председателю горисполкома) за разрешением. А если купят тисочки, добудут золотишко, камушки и будут без разрешения колечки делать и продавать, а с барщины уйдут, то приедет князь с дружиной (ОБХСС), тисочки отберет, морду начистит, может баб обидеть. А если говорить серьезно, даже если они и получат разрешение от низового советского и партийного органа, то монархия у нас абсолютная, вся власть у генерального секретаря. Отменит он решение низовых начальников и все – опять тюрьма, расстрел. Без гарантий сверху – никуда, а где же их взять?»
Тут опять взяли слово мудрецы и сказали: «А мы дадим первостатейную, самосильнейшую гарантию. Мы превратим нашу абсолютную[9] феодальную монархию в монархию конституционную[10], ограничим самодержавие. Введем законы, которые будут выше власти генерального секретаря. Они будут гарантировать право частной собственности и свободу предпринимательской деятельности, права личности. Пусть себе буржуи трудятся, платят оброк-налоги, но власть и командные высоты в экономике оставим у нас с вами – у феодального государства. Барщину оставим – пусть на государственных (феодальных) предприятиях трудятся. Сколько наработают – все наше».
На том и порешили. Приняли в 1988 году закон о кооперации, который легализовал частную собственность и частнопредпринимательскую деятельность, и стали ждать оброка. Правда, пришлось организовать реально работающий парламент – Верховный совет – и избрать генерального секретаря ЦК КПСС (царя) М. Горбачева Президентом СССР – главой новой советской конституционной монархии.
А дальше все пошло вразнос. Советское царство, организованное как союз национальных республик, начало последовательно расходиться по национальным квартирам. Республики стали декларировать независимость и становиться самостоятельными государствами. Этот процесс решительно ускорился и стал необратимым в результате крайне неловкой, глупой и некомпетентной попытки госпереворота, предпринятой в августе 1991 года группой коммунистических функционеров второго ряда, оставшихся в органах госвласти СССР. Эти люди – финальный продукт отрицательной кадровой селекции периода позднего СССР – уже совсем ничего не умели, не пользовались поддержкой народа, армии, силовых структур и за три дня сумели провалить и проиграть все. Осенью 1991 года коммунистическое советское начальство окончательно разбежалось, бросив страну на произвол судьбы. Горбачев повис в воздухе. СССР – страны, президентом которой он был, больше не существовало. Последний коммунистический советский царь упразднился вместе с царством. 14 национальных республик бывшего СССР отправились в историческое плавание в неожиданно свалившемся на них море самостоятельной государственности. На развалинах государства осталась одиноко стоять русская республика – РСФСР – далее просто Российская Федерация.
В этот трагический момент истории первым конституционным монархом (президентом) новой России стал Борис Ельцин. Он был первым русским царем, искренне, последовательно, деятельно преданным идее конституционной монархии, ответственной перед народным представительством – в противовес монархии абсолютной. Он первым ясно и четко, не на словах, а на деле сменил концепцию царской власти в России: это не самодержавная власть, врученная царю богом, а власть, сознательно врученная ему народом и конституционно ограничиваемая народными представителями – парламентом (Верховным советом, а затем – Государственной Думой). Ельцин доказал это всей своей жизнью. И в этом – одна из его величайших исторических заслуг перед Россией.
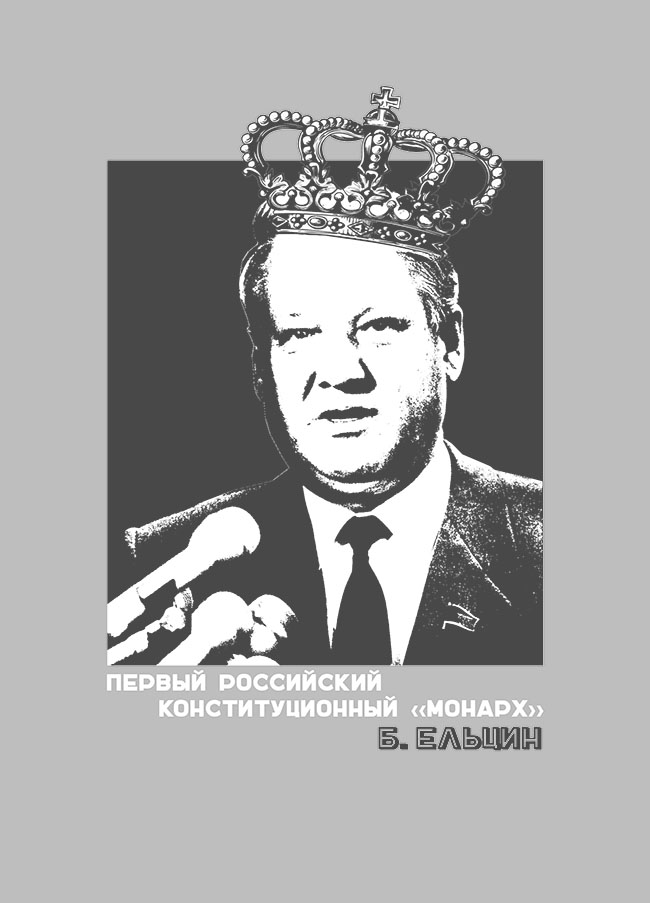
Почему я называю его царем? Потому что в момент его прихода к власти феодальные отношения собственности (госсобственность) и создания прибавочного продукта в стране (барщина и оброк) оставались незыблемыми. Частнопредпринимательская деятельность была только что разрешена, еще не была как следует развернута и не являлась экономически значимым сектором российской экономики. Частная собственность была всего лишь легализована, но еще не была сформирована, наработана. В регионах правили феодалы (председатели облисполкомов и горисполкомов), опиравшиеся на остатки старого бюрократического аппарата и силовых структур. Они, правда, уже подвергали сомнению условия ленных договоров (а их надо было перезаключить с новым царем), готовы были перехватить как можно больше власти у ослабевшего центра. Над страной вставала угроза феодальной раздробленности. Социальная структура российского общества практически полностью копировала советскую: царь (президент), феодалы (управленческий госаппарат в территориях и экономике), подданные, отрабатывающие барщину на госпредприятиях (в системе феодальных экономических отношений собственности) или платившие оброк за пользование в своей самостоятельной предпринимательской деятельности объектами и ресурсами, которые принадлежали государству (других просто не было). Новый социальный слой предпринимателей, работников частного сектора и самозанятых только начал формироваться, был статистически незначителен и не мог предложить никакой самостоятельной политической и экономической повестки дня, принять значимого участия в постановке задач и управлении страной.
Во главе старой феодальной экономической, социальной и управленческой конструкции под названием Россия и оказался царь Борис. Двигаться, опираясь на нее, дальше было нельзя. Она только что показала свою катастрофическую несостоятельность, приведя к полному экономическому и политическому краху Советский Союз. Это была ясная теория. Но была и не менее ясная практика. Осенью 1991 года страна была накануне реального голода, полного коллапса транспортной, коммунальной, снабженческой инфраструктуры. Финансовая система была полностью разрушена советскими управленцами: огромный внешний долг, отсутствие валютных поступлений в минимально требуемых для критического импорта продовольствия размерах. Система внутренних расчетов была дезорганизована. Никто уже не хотел рублей, которые начинали стремительно девальвироваться. Над страной вставала заря бартера[11] – примитивных товарообменных операций, снижавших и без того низкую эффективность экономики. Промышленность потеряла сбыт и начала останавливать производство. Разваленное коммунистами сельское хозяйство не давало никаких позитивных надежд.
С политической и государственной стороны дело было тоже очень плохо.
Драматически усиленный и ускоренный ГКЧП процесс развала СССР перекинулся и на Российскую Федерацию. Властная активность региональных феодалов, в первую очередь в национальных областях, сделала совершенно реальной угрозу распада РФ.
Явная возможность коммунистического реванша, крайняя идейная и психологическая поляризация общества, непримиримость позиций поставили в текущую повестку дня реальность кровопролитной гражданской войны в России. И это на фоне нищего, ничем не владеющего населения, которому нечего терять, и наличия огромного ядерного арсенала, потеря контроля над которым должна была бы закончиться гибелью человечества.
В общем, царю Борису, да и всем нам, не позавидуешь.
При взляде в прошлое из сегодняшнего дня кажется абсолютно невероятным, фантастически невозможным то, что мы избежали всех опасностей и успешно разрешили эти проблемы. В таких случаях любят говорить: «Мы чудом вышли из безвыходного положения».
Неправда. Само по себе ничего не делается. Особенно то, о чем идет речь.
Объясняется рукотворное чудо очень просто. Ельцин – великая историческая фигура мирового масштаба. В обстоятельствах национальной катастрофы он не растерялся, не запаниковал, вел себя решительно и твердо, не уходил от ответственности. Он лично дал всему точку опоры в распадавшемся мире. Это главное, что может и должен делать руководитель в критической ситуации.
Ельцин сумел в кратчайший срок собрать вокруг себя, объединить и дать возможность работать команде людей, которые восстановили госаппарат и госуправление в стране. Бурбулис, Гайдар, Чубайс, Черномырдин, Волошин, Глазьев, Нечаев, многие другие были очень разными личностями. У них были непростые отношения друг с другом и с Ельциным. Но все они были незаурядными людьми, и все они умели добиваться результата в самых сложных условиях. Впервые после 1945 года это была позитивная кадровая селекция.
Ельцин интуитивно выбрал Гайдара и поручил ему разработку стратегии и тактики развития страны, а потом дал ему краткий карт-бланш на реализацию планов. Это еще одна историческая заслуга Ельцина. Гайдар был совершенно нетипичным руководителем для советского номенклатурного госаппарата. Он был умен, хорошо образован, обладал личным мужеством и твердым несгибаемым характером, несмотря на свою негероическую внешность. Он совершенно не держался за власть. Она была нужна ему только для реализации того, что, как он считал, было необходимо для блага страны. Гайдар готов был реализовать неизбежные, правильные, но непопулярные решения и потом лично за них ответить. Он прекрасно понимал, что положительные результаты будут позже в силу естественной длительности экономических и социальных процессов, а неудобства и трудности – сразу, сейчас. Был готов стать козлом отпущения для врагов, ничего не понимающих и страдающих обывателей, завистников и дураков всех мастей. Он был честным и порядочным человеком. Так его воспринимал и воспринимаю я и многие мои товарищи. Это плохие качества с точки зрения сохранения власти и места в номенклатурной иерархии, но для общества, на службе которого такой человек, – это большая удача.
Кроме того, у него были новые идеи и план действий, обещавший выход из катастрофы. Он сумел внятно и убедительно объяснить его Ельцину. Ведь тот должен был принять или не принять план и взять на себя главную личную ответственность за решение.
Вот основное, что было сделано в тот короткий период, когда Гайдар руководил экономикой России.
1. Бесплатная приватизация жилья, стартовавшая с принятия законов 1992 г. В одночасье практически все жители страны стали настоящими частными собственниками. Не просто собственниками – миллионерами. Сегодня вряд ли найдешь квартиру, которая стоит меньше миллиона. Это был первый в многовековой истории России случай, когда власть сделала людям подарок, так резко изменивший их материальное положение. Люди, правда, почти тут же об этом забыли и стали воспринимать эту грандиозную революцию как должное. А ведь то, что людям стало что терять, помимо решения ключевого вопроса советского человека – жилищного – явилось одной из важнейших причин невозможности коммунистического реванша и в большой степени предотвратило кровавый кошмар новой гражданской войны.
2. Ваучерная приватизация 1992–94 гг. Каких только гадостей не было сказано с самых разных сторон об этом событии. Приватизацию называли несправедливой, бандитской, называли обманом, грабежом народа. Сейчас пена немного схлынула. О непримиримом противостоянии правительства Ельцина-Гайдара и Верховного Совета, в условиях которого принималась программа приватизации, забыли. Что же осталось в сухом остатке? Я думаю, что это было первое и, боюсь, единственное честное и справедливое распределение государственной собственности между всеми жителями страны за всю ее историю. Впервые каждый гражданин России получил документ, юридически подтверждающий право на владение долей так называемой общенародной собственности (она же государственная, она же феодальная). Чтобы был понятен революционный смысл этого события, расскажу одну личную историю.
В конце весны 2015 года к нам в гости пришла родственница. Время было нервное. Только что Центробанк во главе с Набиуллиной блестяще провел более чем двукратную девальвацию рубля. Кризис, падение экономики, начало санкционной истории. В доме был включен телевизор. По нему показывали знаменитый рекламный ролик: «Газпром – народное достояние». Родственница, посмотрев на телевизор, произнесла: «Деньги нужны. Где моя доля нефтегазовых доходов?» Сказано было так искренне и серьезно, с такой уверенной надеждой, что я понял: вопрос надо решать.
«Вопрос непростой, но решаемый, – ответил я ей, – у меня хорошие юристы. Придется повозиться, но мы получим с Газпрома все, что тебе причитается. Мне нужны юридические документы, подтверждающие твое право собственности на долю в Газпроме – акции, другие документы: облигации, возможно, твой договор с Газпромом, по которому он обязан отчислять тебе долю своих доходов или прибыли. С этими бумагами мы пойдем в Газпром, а если там начнут юлить, то в суд».
Лена была изумлена и обижена до глубины души: «Ты с ума сошел! Какие документы? Ты же видишь по телевизору! Это же общенародное достояние, принадлежит всем нам. Я же гражданка России!» Мне пришлось объяснить, что, если мои юристы придут в Газпром или суд с телероликом, их сочтут за сумасшедших или американских провокаторов. Телеролики, речи руководителей госкомпаний и правительства об общенародной собственности не могут иметь никаких юридических последствий. Они не предназначены для организации конкретных финансовых транзакций между госкомпаниями и жителями страны. Задача их медицинская, терапевтическая. Они должны успокоить нервных жителей, придать им уверенности, дать им надежду. Денег нет, но вы держитесь. Все хорошо. Вообще-то мы все богаты. У нас богатая страна. Это такая позитивная социальная реклама. Она нужна не для того, чтобы мы получили деньги, а чтобы деньги на свои нужды (инвестпроекты) получил Газпром. Он же наш, общенародный.
Но Лена не сдавалась. «А как же конституция?» – выложила она последний аргумент.
Старые опытные ГИПы в НПО «Уралсистем», вместе с которыми мы проектировали и внедряли АСУ на многих советских заводах, учили меня, молодого начинающего руководителя: если возникают споры и разногласия между исполнителем и заказчиком по поводу качества работ, обязанностей сторон, финансовых отношений в ходе проекта, надо брать документы (ГОСТы, технические задания, договора), регулирующие эту сферу деятельности, и читать их так, как они написаны, а не так, как понимает или хочет понимать кто-то из участников.
Мы определили, что у Лены на руках паспорт гражданки Российской Федерации. У меня, по счастью, дома есть Конституция РФ. Больше никаких документов, относящихся к этому делу, у нас нет. Мы сели и внимательно от начала до конца постранично прочитали оба документа. Мы не нашли ни слова про Лену, Газпром и их отношения. Ехать с этими бумажками в Газпром или суд было бессмысленно. От моих попыток объяснить, что общенародная государственная собственность ни Лене, ни мне не принадлежит, что это собственность феодальная, принадлежащая монарху, и доходами на законных основаниях распоряжаются поставленные им управляющие, стало только хуже. Лена была удручена, обижена, а, главное, мне показалось, что в глубине души она верит, что это не так, что Газпром принадлежит ей и что каким-то, пусть пока неизвестным, чудесным образом, и она и все мы должны и можем получить «живыми» деньгами свою долю нефтегазовых доходов страны безо всяких юридических глупостей.
Этот простой пример показывает, насколько революционно, честно и последовательно действовал Чубайс и все правительство Ельцина, раздавая ваучеры – документы, юридически обязывающие, юридически подтверждающие собственность владельца на долю в госсобственности, в том самом общенародном достоянии. С ваучерами можно было пойти не только в суд. С ними люди пошли на предприятия, и 40 миллионов человек стали акционерами советских государственных заводов и фабрик.
Можно обвинять Чубайса, Гайдара и Ельцина в том, что кто-то неправильно вложил ваучеры и не заработал, кто-то поменял их на бутылку водки, а кто-то, наоборот, собрал пакет ваучеров и стал владельцем заводов, газет, пароходов. Хорошо ли перекладывать свою ответственность собственника страны на других? Шанс был дан всем – равный и справедливый. Ни у кого ничего не забрали, напротив, всем дали юридическое право на общенародную собственность.
3. Реформы Гайдара предоставили десяткам миллионов людей возможность вести самостоятельную свободную экономическую деятельность, самим зарабатывать себе на жизнь и не зависеть от государства и начальника. Это подошло не всем. Многие мои родственники, друзья, знакомые не смогли оторваться от советской заводской трубы. Свобода оказалась жестоким испытанием. Самостоятельность, навыки предпринимательской деятельности были злом, с которым Советская власть успешно боролась 70 лет и во многих душах победила. Тем не менее, миллионы рискнули и преуспели. Главное, что эти люди не только поправили материальное положение своих семей, не только стали лично и финансово независимыми, самореализовались и стали делать то, что, по их мнению, а не по мнению начальства, делает их жизнь и весь мир лучше. Они спасли и преобразовали страну: привезли еду, одежду, обувь, выпивку, бытовую технику, компьютеры, медицинское оборудование, лекарства и еще тысячи видов продукции, которые не делал, или делал плохо, или не хотел делать Советский Союз. Они построили рынки, ларьки, магазины, офисы, в которых потребители могли все это увидеть, потрогать и купить. Они пришли на деморализованные советские заводы и фабрики, разогнали красных директоров, многие из которых только и умели, что молиться коммунистическим богам, не иметь своего мнения, производить то, что велело Министерство и Госплан, не думая, нужно ли это покупателям. Эти новые предприниматели стали на заводах и фабриках хозяевами, начали отвечать за все сами и производить то, за что люди были готовы платить деньги и в чем нуждались. Конечно, среди красных директоров были дельные, самостоятельные, предприимчивые. Те, кто сегодня представляет собой славу страны и российской экономики. Конечно, среди предпринимателей или, как их называли, «новых русских», было немало амбициозных наглецов и банальных мошенников. Но именно эта разношерстная, где-то смешная, где-то страшная, где-то героическая толпа неожиданно появившихся на исторической сцене новых русских предпринимателей совершила чудо. За какие-то 6-7 лет в первой половине 90-х они накормили и одели страну, наладили работу банковской системы, начали с позиции собственников организовывать дело в промышленности, сфере обслуживания, торговле. Они и работавшие у них люди составили новый социальный слой – русское третье сословие, частный бизнес. Следует сделать важное замечание: основная масса активов (земля, объекты инфраструктуры, большинство предприятий, банков и др.) по-прежнему формально принадлежали государству, были в феодальной собственности. Но старое коммунистическое начальство вместе со старым госаппаратом разбежалось, а новые руководители страны были приверженцами частной собственности, капитализма, свободного предпринимательства и демократии как формы управления государством. Поэтому предприятия госсектора управлялись как частные (вспомним Вяхирева и Газпром и многих других). Государство практически не лезло в экономику и дало ей развиваться свободно. А само занялось восстановлением госаппарата, борьбой с криминалом, который необычайно расплодился в условиях безвластия и стал угрожать нормальному функционированию экономики и предъявлять претензии на власть, пыталось выстроить новую политическую систему партий, начало обуздывать региональный сепаратизм.



