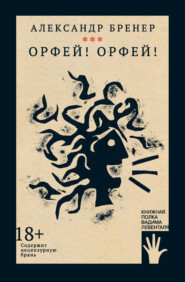
Полная версия:
Орфей! Орфей!
Все они кажутся мне фальшивками.
Даже если некоторые из них – талантливые.
Сорокин…
Гройс…
Маурицио…
Гленн Лоури…
Кто там ещё?
Но…
ПЛЕВАТЬСЯ НЕХОРОШО!
Нужно совершенно иначе поступать!
Нужно от всего нынешнего базара – прочь!
Нужно быть не с современными людьми, а с чудесными предками.
Нужно разорвать все связи с обществом.
И крепко связать себя с тем, что по-русски называется совестью.
В философии это называется этикой.
Нужно слушать голоса мёртвых, которые умели по совести жить.
Нужно слушать голос самого первого поэта, чьё имя – Орфей.
Он был аскет.
Не ел зверей.
Не говорил, а пел.
Для Эвридики, для птиц и зверей.
Вот это и есть кодекс настоящего художника.
А ты, микрофашист Бренер, сгинь!
БОЖЕ, СДВИНЬ МЕНЯ, СДВИНЬ!
Аминь.
33Кстати, голос Гитлера во мне умолк.
Это само собой произошло.
Возможно, от старости?
Или от новоявленной щенячести?
Или я всё же выкакал того бумажного Гитлера?
34А голос, требующий прикоснуться к деревьям, снова со мной.
Шепчет: «Сюда! В глушь!»
Хожу, притрагиваюсь к стволам.
Осязаю веточки.
С благодарностью срываю ягоды.
Травку поглаживаю.
Цветы нюхаю.
Смотрю на пчёл, ворочающихся в экстазе среди лепестков.
Хочу быть таким же, как они.
Внимаю их голосам:
– Жжжжжу-жжииии-жааа…
35И вот ещё (интересное): я недавно прочитал замечательную книгу о голосах: «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СЛОМА БИКАМЕРАЛЬНОГО РАЗУМА».
В оригинале так: «THE ORIGIN OF CONSCIOUSNESS IN THE BREAKDOWN OF THE BICAMERAL MIND».
Имя автора: Julian Jaynes.
Книга эта, насколько мне известно, пока не переведена на русский язык.
Джулиан Джейнс был американским психологом, но лучше сказать – оригинальным мыслителем.
Я попытаюсь вкратце передать его главную концепцию, хотя упрощений мне не избежать.
Итак.
Джулиан Джейнс считал, что сознание появилось примерно за тысячу лет до нашей эры (то есть это сравнительно недавний феномен).
А до этого поступки людей диктовались слуховыми галлюцинациями, исходившими из правого мозгового полушария, откуда они транслировались в левое.
Это и побуждало человека к тем или иным действиям.
Отсюда главный термин Джейнса: БИКАМЕРАЛЬНЫЙ РАЗУМ (древних людей).
По его мысли, слуховые галлюцинации правого полушария воспринимались древними как «голоса богов» и возникали в ситуациях, когда человеку необходимо было принять какое-либо важное решение.
Таким образом, голоса богов – это сила, позволявшая нашим пращурам ориентироваться в той зелёной чаще праистории, о которой у нас весьма приблизительное представление.
Ну а что такое для Джейнса сознание?
Это – введение в пространство мышления модели «я» и «другие», определившей позднейшее человеческое поведение.
Это – абстрагированное мышление как продукт развития языковой деятельности, артефакт символического универсума.
Джейнс считал, что становление сознания стало возможным с появлением метафоры.
Метафора – слово или выражение, используемое в переносном значении; сравнение предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака.
А бикамеральный человек не знал ничего подобного.
Он подчинялся голосам богов, которые прямо указывали ему, как нужно поступать.
Жизнь бикамерального человека определялась привычками, а в непредвиденных обстоятельствах в действие вступали голоса богов.
Согласно Джейнсу, бикамеральный человек имел слабо развитое чувство линейного времени и не умел осмысливать своё прошлое и проектировать своё будущее.
Чтобы доказать свою концепцию, феноменально эрудированный Джейнс обращался к самым разным областям знания: к нейрофизиологии, к антропологии, к античной мифологии, к психопатологии, к древней истории, к изобразительному искусству и поэзии.
Он хотел показать, что в бикамеральном мышлении реальность и миф, действительность и магия были неразрывно связаны.
А разделились они только с появлением философии в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть уже после слома бикамерального мышления.
Ещё Джейнс утверждал, что бикамеральный человек имел примерно такой ментальный расклад, который характерен для так называемых шизофреников.
Эти последние часто слышат руководящие и приказывающие им голоса, подобные голосам богов, определявшим деятельность древних шаманов, библейских пророков и создателей архаической поэзии.
В своей книге Джейнс посвятил целую главу гомеровскому эпосу.
Он считал, что голоса богов в «Илиаде» – это вовсе не поэтический приём, а реальность тогдашних людей: слуховые галлюцинации, провоцирующие их действия.
С другой стороны, в «Одиссее», созданной, по мнению Джейнса, несколькими столетиями позже, явлено совершенно иное мышление.
Одиссей, претерпевающий множество злоключений в ходе своего странствия, тоже внимал голосам богов, но при этом всё больше и больше полагался на собственные смекалку и предприимчивость.
«Одиссея», по мысли Джейнса, – свидетельство слома бикамерального разума.
В Ветхом Завете он находил подобное же движение: от бикамеральных пророков, доносивших до народа Слово Божие – к Экклезиасту с его беспощадной рефлексией и созерцанием человеческой тщетности.
Оракулы, бродячие поэты и сказители также немыслимы без голосов богов, даровавших им вдохновение и способность воскрешать тёмное прошлое и провидеть будущее.
Как полагал Джейнс, слом бикамеральности произошёл в период, когда это мышление уже не могло обеспечить выживание древних людей.
Это случилось довольно неожиданно, в Средиземноморье, когда на западные цивилизации обрушился ряд геологических катаклизмов: извержения вулканов, сопровождавшиеся частичным затоплением земель.
Выжившие люди превратились в беженцев.
В ситуации междоусобной войны и хаоса голоса богов были заглушены криками ожесточения и отчаяния.
Чтобы существовать, человеку понадобились новые свойства разума: хитрость, способность к обману, саморефлексия, изворотливость, враждебность к чужим, страсть к соперничеству.
Впрочем, как отмечал Джейнс, уже и до геологических катастроф вступили в силу факторы, обусловившие кризис бикамерального разума: торговля, рост населения, развитие письменности.
Джейнс посвятил целые разделы своей книги осколкам бикамеральности в новейших обществах: духовидцам-медиумам, автоматическому письму, шизофрении, гипнозу и глоссолалии.
По мысли исследователя, сознание человека до сих пор находится в процессе становления.
36Прочитав книгу Джейнса, я понял, что никогда не был современным рефлексирующим субъектом с его материальными интересами, моральными суждениями, рациональной пространственно-временной ориентацией, чётким разграничением себя и других, а также стремлением к самореализации и саморегуляции.
Нет, я был изнасилованным и самоубитым обществом последышем дикарей, мелкотравчатым варваром, прислушивавшимся к голосам богов и демонов и не подозревавшим о существовании развитого самосознания.
Секуляризация и расколдовывание мира, длившиеся три тысячи лет, едва коснулись меня, а коснувшись, не модернизировали, а только травмировали.
Я падал и вставал, падал и вставал.
И всё прислушивался к ужасающему рёву цивилизации, силясь различить в нём смолкнувшие голоса богов.
Я был и остался троглодитом, лопухом, отрезанным ухом, недорезанным кочевником.
И моя последняя (слабая) надежда – на голоса пчёл.
Их тоже изводит цивилизация.

Про то, как мне снился кентавр
1Мне давно уже снится, что я – кентавр.
Причём совершенно беспомощный.
Я не могу ни скакать, как конь, ни владеть руками, как человек.
Я даже не способен дышать в этом сне.
Мой язык распухает и заворачивается.
Он больше не пропускает в горло дыхание.
И зубы, как грибы, ломаются!
И ноги лошадиные подгибаются.
И я валюсь, валюсь…
А закричать не могу…
Или заржать…
Несчастный, больной кентавр…
Посреди ночи я просыпаюсь в поту, в агонии.
2Ну и что означает сей сон?
3Думаю, кентавр соответствует моему месту среди людей.
То есть не месту, а его отсутствию.
Кентавру нет места в человеческом обществе.
И мне тоже нет.
Я никогда не чувствовал себя «своим» ни в каком окружении: ни в доме родителей, ни среди приятелей, ни в кинотеатре, ни на открытии выставки, ни на политической демонстрации, ни в питейных заведениях, ни на пляже – вообще нигде.
Я совершенно чужой в этой цивилизации.
Я не люблю эту цивилизацию.
Она выталкивает меня.
Поэтому мне снится кентавр.
Я и есть этот кентавр.
4Дэвид Войнарович писал, что самый большой человеческий страх – оказаться перед сломанной стеной иллюзий, которая окружает общество.
«That moment of X-ray of civilization», – говорил он.
У меня этого страха нет.
Я знаю: стена безнадёжно сломана.
Общество – сплошные иллюзии.
И ужасающее, беспредельное, ни на минуту не прекращающееся насилие.
Вот и вся недолга.
Я не боюсь общества.
Я в нём не участвую.
Я боюсь только врачей и полицию.
Это совершенно конкретный страх: не дай бог им в лапы попасть!
5Я быстро забываю свои сны.
От них остаётся лишь смутное недомогание.
Но последний – вчерашний – сон стоит передо мной.
Расскажу его.
6Я, кентавр, торчу в Париже на мостовой.
Я знаю, что скоро умру.
Я уже растратил всю свою энергию.
У меня нет ни капли воображения.
Остались только дурацкие импульсы.
Например, прыгнуть с моста и утонуть.
Или крикнуть прохожим что-то непристойное.
Например, что Париж – говно.
Это ведь и правда так.
Тут только камень, машины, асфальт.
Витрины, кафе, люди, стекло.
Ещё машины, ещё бутики, ещё рынки, ещё супермаркеты.
Люди, дома, булочные.
А кентавру нужен лес.
Холмы.
Луг.
Река.
7Я совершенно потерян здесь.
Возможно, я сам виноват?
Я уже не чувствую ничего.
У меня нет никаких идей.
Я гнилой внутри.
Одни кишки.
И кал.
У меня сводит низ живота.
Я пукаю, как больной конь:
– Орг-огх-пссссс…
У меня встают волоски на руках.
Зубы скрипят.
Мурашки бегут по спине.
Мурашки бегут по бокам.
Хвост бьёт по ляжкам, как хлыст.
Может, я не кентавр, а кадавр?
8Париж омерзителен.
Я больше не могу впитывать в себя эту гнусь.
Капитал.
КАПИТАЛ.
К А П И Т А Л.
Неужели мне придётся здесь умереть?
Я хочу умереть в лесу.
Я хочу умереть как кентавр.
Я хочу умереть…
Или я уже и так кадавр?
9Где я, собственно, стою?
Кажется, перед Gare du Nord?
Здесь много людей.
Они спешат.
Заняты только собой.
Собой и своей алчбой.
Выходят из вокзала, входят в него.
Бегут мимо меня, человека-коня.
Никто не замечает, что я здесь стою.
А ведь я не такой, как все.
Я – КЕНТАВР!
Настоящий древний кентавр!
Но они бегут, будто меня здесь нет.
Лучше б они атаковали меня!
Лучше б они растерзали меня!
10И вдруг я вижу: бездомный заметил меня.
Бездомных легко отличить.
Они носят все свои вещи с собой.
Или возят их в тележке из супермаркета.
Но у этого нет никаких вещей.
Или он наркоман?
А может, бездомный наркоман?
Он смотрит на меня.
Он подходит ко мне.
И задаёт какой-то вопрос.
Я не понимаю его языка.
Но улыбаюсь ему.
Я стараюсь выглядеть естественно.
Я стараюсь держаться как нормальный человек.
Как кто-то, кто знает, что он тут делает.
Но на самом деле я не знаю ничего.
Вернее, я знаю, что я не такой, как все.
Я – кентавр!
КЕНТАВР ИЛИ КАДАВР.
11Бездомный протягивает руку и что-то говорит.
Я не понимаю, но догадываюсь.
Он просит вспомоществование.
Монетку или две.
Как всегда, капитал хочет всё контролировать.
Даже отношения кентавра и бездомного.
Но у меня ничего нет.
Ни монеты, ни тем более двух.
Я – кентавр.
У кентавра капитала – ноль.
Кентавры живут безденежно.
Кентавры живут в лесу.
Кентавры лижут росу.
12Но бездомный не понимает этого.
Он всё тянет и тянет руку ко мне.
Прямо в мой рот.
Его кулак залезает мне в пасть.
И я уже не могу дышать.
О, как страшен этот бездомный палач.
Да, ПАЛАЧ!
Настоящий палач, как и все.
Все люди, даже бездомные, – палачи.
13Неужели мне это лишь кажется?
Или я уже видел этого бездомного?
Но где?
И когда?
А?
И тут меня осеняет: это бездомный из фильма «Mulholland Drive»!
Или из «Twin Peaks»!
14Он всё глубже и глубже засовывает кулак в мой рот.
Не могу дышать!
НЕ МОГУ!
15Я просыпаюсь – как от землетрясения.
Я весь в холодном поту.
Палач!
Дантист!
Бездомный!
Врач!
О, как я боюсь палачей и врачей!
И полицейских.
И всех людей.
16Чтобы стряхнуть с себя липкий страх, я пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее.
Спасительное.
Но что?
ЧТО?
Я вспоминаю эпизод из романа Ясунари Кавабаты «Снежная страна».
Я эту книгу когда-то любил.
В ней есть замечательная эротичная история.
Бездельник из Токио отправляется зимой в провинцию и завязывает отношения с местной гейшей – молодой, не очень опытной женщиной.
Он приходит к ней ежедневно и проводит у неё долгие часы.
Всё это время он только и делает, что поглаживает её распущенные волосы.
У гейши очень длинные, очень красивые, очень чёрные волосы.
Гость запускает в них свои руки и приговаривает: «Какие холодные! Я никогда не трогал таких холодных волос!»
17Вспомнив эту историю, я чувствую облегчение.
Я шепчу заклинание:
– Какие холодные! Какие холодные! Какие холодные!
Я повторяю это много, много раз…
Возможно, теперь я усну…
Скорей бы, скорей…
Я шепчу:
– Кентавр, спи. Спи. Спи. Спи. Спи. Спи. Спи.
И:
– Сундер варумбе… Сундер варумбе… Сундер варумбе…
И затем:
– Тили-тили-тили-бом… Загорелся кошкин дом…
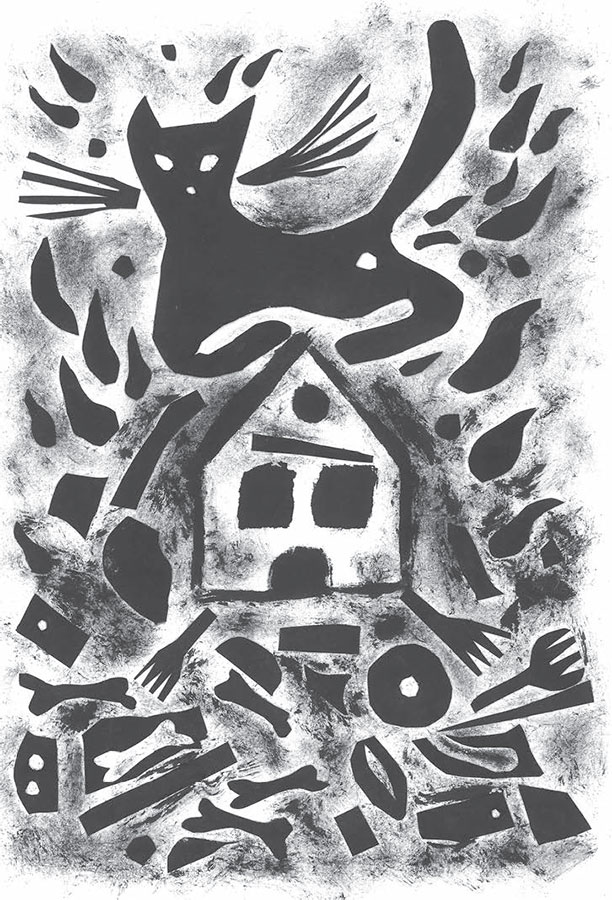
Про то, как я читал и перечитывал «Кошкин дом»
1Одним из самых больших потрясений в моей жизни был «Кошкин дом» Маршака.
В детстве эта вещь снесла мне голову.
И недавно, когда я её перечитывал, опять снесла.
Я снова пережил сильнейшее ощущение крушения, несчастья, жалости и опустошения.
О этот подлый, уютный, бездушный, отвратительный кошкин дом – и его неминуемое сожжение!
Это как греческая трагедия.
Только она у Маршака не героическая.
И с фарсовым счастливым окончанием.
Теперь я знаю, почему ненавижу все человеческие жилища, квартиры, хаты, морги, хоромы, трупарни, хрущёвки, казематы, покои, камеры: из-за Маршака.
Он привил мне эту тошноту, это отвращение.
И я говорю ему – патентованному советскому писателю:
– Obrigado, Самуил Яковлевич! Вы для меня всё равно что пророк Захария!
2Я помню, как к моим родителям приходили их друзья-знакомые.
Я помню этих кур и петухов, этих кабанов и свиней, этих козлов и коз.
Они все были точно такие, как у Маршака: толстомясые, закоснелые, загребущие, заледенелые, неспособные увидеть ничего, кроме своих горшков и корыт.
А мои родители?
Маршаковские кошка и кот.
И всё почему?
А потому, что у них был дом!
Нельзя, нельзя иметь дом!
Даже если это избушка Хайдеггера!
Даже если это сруб Тарковского!
Даже если это пещера Делёза-философа!
Даже если ты пускаешь туда бездомных котят!
3А моя мама, кстати, пускала котят, а не гнала их.
Моя мама была добрая.
Но дом (вернее квартира), к которому она прилепилась душой, губил её.
Зачем прилепляться душой к стенам, полу и потолку?
Незачем.
НЕ-ЗА-ЧЕМ!
4Вот оно:
Бим-бом! Тили-бом!На дворе – высокий дом,Ставенки резные,Окна расписные.А на лестнице ковёр —Шитый золотом узор.По узорному ковруСходит кошка поутру…У неё, у кошки,На ногах сапожки,А в ушах серёжки.На сапожках —Лак, лак.А серёжки —Бряк-бряк.По своему экзистенциальному ужасу эти стихи не уступают Иннокентию Анненскому.
Здесь из псевдофольклорного лада высовывается и кажет свою насурьмлённую рожу ад: самая главная мифическая гадина: цивилизация.
Тут всё звенит, трясётся и пляшет на манер вавилонской блудницы или Саломеи с головой Иоанна Крестителя.
Платье новое на ней,Стоит тысячу рублей.Да полтысячи тесьма,Золотая бахрома.Вот этой самой тесьмой с золотой бахромой можно удавиться, даже не дочитав кошачью, рассказанную в стихах, детскую историю.
5Человеческий дом всегда сводится к следующему:
Мне коза сейчас сказала,Что у нас тут места мало.Так всё было, будет и есть, Самуил Яковлевич.
Пока стоят на земле дома, будут стыд и кутерьма.
Пока есть квартирный вопрос, будут боль и понос.
Будут одни Мармеладовы, Михалковы и Кончаловские.
Будут одни собачьи конурки да дачки на Рублёвском шоссе.
Будут города Глуповы.
Будут Собакевичи и Коробочки.
Будут Свидригайловы.
Но Свидригайлов-то понял под конец: истинный дом – банька с паутиной и тараканами.
А когда поймут нынешние?
Никогда.
Всяк, у кого есть жилплощадь в бараке или в сталинке, похоронил себя там заживо.
Прав Батай: могила – прототип всякого обиталища.
6Сколько раз в детстве я мечтал убежать из дома родителей?
Сто, сто и ещё сто раз!
Но никогда не думал убегать в какой-то другой дом.
Всегда хотел убежать только в цирк.
Потому что цирк – не дом.
Потому что цирк – антидом.
Вагончики.
Брезент.
Тряпки какие-то.
Кочевники.
Лошади.
Ослики.
Нищие пожитки.
Полуголые девушки.
Шпагоглотатели.
Канатоходцы, жонглёры, клоуны.
А укротителей я не любил и всегда ждал, когда на них прыгнет тигр.
И сожрёт.
7Я жил с разными людьми и в разных домах, но в любом из них запрещалось летать не только летучим мышам, но и бабочкам.
Да они бы и не захотели там летать!
Только один дом был наполнен мотыльками, комарами и капустницами.
Но это был не дом, а сквот: Кан-Кун.
А в домах – ни-ни.
Какие-то взрослые грозные пацаны и накрашенные хамские дамочки ловят всех бабочек и на иглы насаживают.
И под стекло помещают для эстетического благообразия.
И на стены дома вывешивают.
8И вот снова Маршак:
Мой дом для вас всегда открыт!Здесь у меня столовая.Вся мебель в ней дубовая.Вот это стул —На нём сидят.Вот это стол —За ним едят.Какая цивилизованность!
Какое сучество!
Не хочу ваших стульев и столов.
Не хочу вашей дубовой мебели.
Не хочу у вас гостить, милые хозяева!
Уж лучше я буду стыть на улице!
Однажды я решил провести ночь под проливным дождём и посмотреть, что со мной сделается.
Простудился, слабак.
У-у!
Трудно без крыши и стен.
Но бушмены ведь обходились без них.
И без всяких стульев и столов жили эскимосы Гренландии.
Без комодов и шкафчиков.
Не все двуногие мебелью обзаводятся.
Поэтому верно говорит Коза, хотя и по-козлиному:
Сказать по правде, мы с козломЕсть не привыкли за столом.Мы любим на свободеОбедать в огороде.Это можно сказать и про нас с Барбарой.
9Однажды я жил на острове.
Этот остров известен тем, что на нём родился Наполеон Бонапарт.
Да, Корсика.
Мы с Барбарой полгода там провели, в странном городке под названием Сартен.
Мы туда поехали по совету Жюльена Купа.
Он – один из самых свободных людей на земле.
И он сказал нам, что на Корсике хорошо.
И правда: там ты чувствуешь, что когда-то – ещё вчера! – существовал древний мир, древние боги и существа: титаны, Зевс, Гера, Аполлон, Дионис, Афродита, Геракл, Абарис, Орфей…
Так вот: на Корсике жил в то время некто по имени Орфил.
Про него ходили всякие россказни.
Говорили, что он – псих.
Или что он – колдун.
Или что он – шаман.
Словом, всякое судачили.
Этот человек был крайне нелюдим.
И к тому же немой.
Он занимался тем, что убирал с дорог трупики зверей.
На Корсике, как и везде, туристы-автомобилисты нещадно давят мелких животных, перебегающих асфальтовые пути.
Зайцев давят.
Тушканчиков.
Змеек.
Ежей.
И даже птиц.
Орфил подбирал их тела и хоронил.
Ему за это даже платили жалованье.
Чтобы он не умирал с голода.
Несколько раз я встречал Орфила в Сартене на улице.
Он был очень красив.
Кудрявый, широкоплечий, с львиной головой.
А одет в старое пальто с дырками.
И это странное имя: Орфил.
Почти как Орфей.
Но Орфей, как известно, пел, а Орфил, как я уже сказал, молчал.
Зато он, как и Орфей, не любил общество людей.
Предпочитал деревья, камни, зверей и птиц (даже если они – мёртвые).
А жил он в старом грузовике, на котором передвигался по острову, собирая звериные трупики.
Потом он их где-то закапывал.
И поговаривали, что Орфил делал с ними что-то ещё: тайное, странное.
Какие-то ритуалы совершал.
Но про это я уже ничего не могу сказать.
10Почему я вспомнил его?
Думаю, он был из какой-то древней маргинальной традиции…
Из какой именно?
Затрудняюсь сказать.
Из какой-то мистической…
Возможно, из орфической?
В любом случае: ему не нужны были дома и всё, что к ним прилагается.
Орфил был сыном неба, моря и земли.
А я – их пасынком?
Не хочу быть просто сыном своих родителей!

Про то, как Цветаева увела меня из Цюриха
1Недавно мне пришло в голову: «Я целых три года жил в Цюрихе!»
И дальше: «Как же я это выдерживал?»
Ведь Цюрих – совершенно разрушенный городок.
Конечно, он разрушен не так, как Гамбург, Дрезден, Кёльн и другие немецкие города, о разрушении которых В. Г. Зебальд рассказал в своей «Естественной истории разрушения».
На Цюрих не падали бомбы немецкой авиации, возглавляемой сэром Артуром (Мясником) Харрисом.
Ковровые бомбардировки прошли и стихли на расстоянии от славного города Цюриха.
Его разорили и раскромсали не американцы, не немцы, не японцы и не русские, а собственные домовладельцы, строители и начальники – как это, кстати, повсюду водится и не переводится.
Постепенное и планомерное разложение и уничтожение памяти – так, чтобы от неё уцелела одна приглаженная, пошлая, лживая версия – вот опробованная стратегия власти как в Бельгии, так и в Мордовии.
Стоит только посмотреть на пластмассовые рамы в старинных домах Цюриха и на стерильно отремонтированные здания в Старом городе, чтобы ощутить всё убожество местных хозяйчиков, не только не сохранивших наследие этого города, но запросто принёсших его в жертву своей тупой всепроникающей алчности.
Результатом такого мягкого разрушения становится вёрткое, ушлое, расторопное нагромождение бездарностей – настоящий тихий ужас, кашемировый кошмар.
Современный Цюрих состоит из аккуратно перелицованных руин, фальшивость которых не улавливается туристами, но внимательный наблюдатель может просто заболеть от разочарования.
Тут уместно вспомнить «Домики старой Москвы» Марины Цветаевой:
Слава прабабушек томных,Домики старой Москвы,Из переулочков скромныхВсе исчезаете вы,Точно дворцы ледяныеПо мановенью жезла.Где потолки расписные,До потолков зеркала?Где клавесина аккорды,Тёмные шторы в цветах,Великолепные мордыНа вековых воротах,Кудри, склонённые к пяльцам,Взгляды портретов в упор…Странно постукивать пальцемО деревянный забор!Домики с знаком породы,С видом её сторожей,Вас заменили уроды, —Грузные, в шесть этажей.Домовладельцы – их право!И погибаете вы,Томных прабабушек слава,Домики старой Москвы.Это стихотворение, несмотря на сентиментально-романтические интонации, свидетельствует о гораздо более прямом взгляде на реальность, нежели все разъяснения гидов и культуртрегеров – что бы они ни плели, о чём бы ни базарили.



