
Полная версия:
Стоящие свыше. Часть II. Усомнившиеся в абсолюте
– Спасибо, большое спасибо, – рассы́палась тетка в благодарности. – Я думала, задавят моих девочек. Встречаются же еще настоящие мужчины!
Она болтала всю дорогу. В основном рассказывая Змаю о своих девочках. И тот слушал! И даже что-то отвечал. Девчонки ссорились, щипали друг друга, пищали и жаловались матери. Йока едва не выл, стоя над ними, – все это было невыносимо скучно, стоять неудобно, держаться слишком высоко, дышать трудно. Больше всего он хотел вылезти из вагона и отправиться в Храст пешком. Тетка говорила о муже-пьянице, раскраснелась и смотрела на Змая, кокетливо пряча и вскидывая глаза. Переживала из-за повязки на его руке. Йока решил, что она слишком много о себе думает.
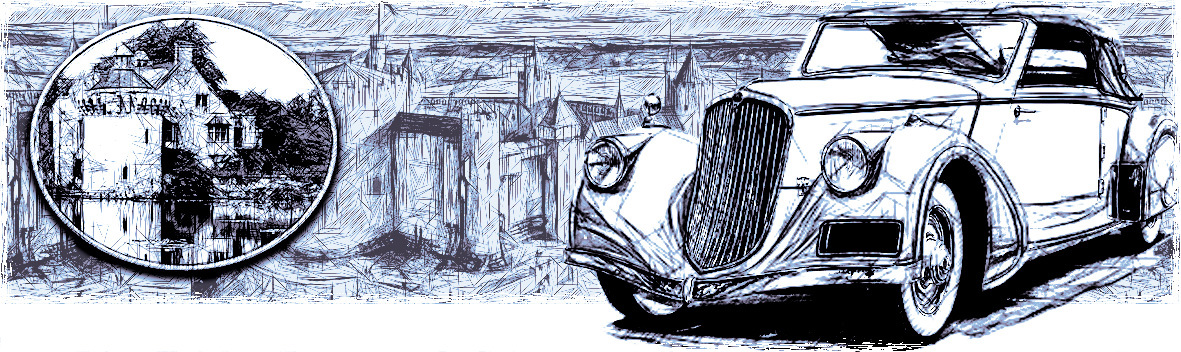
Спустившись на низкую платформу, Змай снял с лестницы обеих девчонок и подал руку толстой тетке, что привело ее в полный восторг: она ахала, улыбалась и, прощаясь, пустила благодарную слезу.
– Это было ужасно, – проворчал Йока, когда они остались вдвоем, направившись в противоположную от музея сторону.
– Что тебе так не понравилось? – Змай притворился удивленным.
– Эта жирная тетка была просто невыносима…
– Да брось. По-моему, она очень симпатичная. И вовсе не жирная. Она, что называется, в теле. И ворковала она так мило.
– Ворковала? – едва не вскрикнул Йока. – Да она несла полную чушь!
– Разве? Я не слушал.
– А… а что же ты делал?
– Так, смотрел. Думал о своем. О том, что с ней будет, когда Враг порвет границу миров. Сможет ли она выжить?
– А почему нет?
– Сначала я думал, что выживут только хлебопашцы. Но теперь и в этом сомневаюсь. Без магнитных камней в этом мире не умеют пахать землю. Не умеют сеять, не умеют жать. Ткать, прясть. Разучились. Лошадей почти нет, мельниц ветряных тоже. Как делать муку? Как ее возить? Жалко их.
– Ты поэтому хочешь найти Врага?
– Нет. Не поэтому, – жестко ответил Змай, и Йока почему-то не решился его расспрашивать.
Арестованный мрачун жил не на краю поселка, как представлялось Йоке, и не возле крепости, что тоже было бы логично, а недалеко от станции, на узкой улочке с деревянными заборами и маленькими домишками в скромных садиках. Высокие липы по обеим сторонам улицы создавали тень, а сквозь листья просвечивало солнце. Видимо, вчерашняя ночная гроза дошла и до Храста, потому что на дорожке блестела непросохшая грязь.
– Уютненько, – сказал Змай.
– Тебе везде «уютненько», – усмехнулся Йока.
– Наверное.
Дом мрачуна с белыми резными наличниками был покрашен в небесно-голубой цвет, к крыльцу от калитки вела дорожка между смородиновых кустов. Змай первым вошел в калитку, но перед домом пропустил Йоку вперед.
– Давай. Посмотрим, что у тебя получится.
Йока давно заготовил нужные слова и, когда на его стук приоткрылась дверь, выпалил:
– Здравствуйте. Мы ищем Сгибу Негована.
На пороге стояла женщина, худая, некрасивая, с черными кругами вокруг глаз.
– Что вам надо от Сгибы Негована? – каркнула она хрипло.
– Я привез ему письмо от его друга. Из Стании.
– Убирайтесь прочь, – прошипела женщина, сузив глаза. – Прочь! Проклятые шпионы. Когда же вы оставите нас в покое?
– Я… – попытался вставить Йока, но женщина неожиданно толкнула его руками в грудь, и он свалился бы с лестницы, если бы за спиной не стоял Змай.
– Убирайтесь! – она стиснула зубы и зажмурилась, как от боли. – Имейте хоть каплю совести!
– Зачем толкаться-то? – спросил Змай, выступая вперед. – Мы и словами понимаем. Сказали убираться – мы уберемся. Спасибо за гостеприимство.
Женщина вдруг раскрыла глаза и отступила на шаг. Руки ее опустились, она шумно и судорожно вдохнула – словно всхлипнула. И по щекам ее побежали слезы.
– Простите, – выдохнула она, – простите.
– Ничего, ничего, – Змай шагнул к ней и обнял, прижимая к груди ее лицо. Оказалось, она маленького роста.
– Я думала… Я думала, опять шпионы. Сгиба погиб месяц назад, на руднике… Несчастный случай.
– Я знаю, – ответил ей Змай.
– Мальчиков бы уберечь… Сгиба не дожил. Не увидел… Проходите. Проходите скорей, пока вас никто не заметил. – Она шмыгнула носом и отстранилась от Змая, вытирая лицо сухой тонкой рукой.
Дом был темноват, но прибран так чисто, что Йока побоялся пройти и замер на пороге маленькой кухни. Белые кружевные занавески, белые полотенца и скатерти, беленая печь с чугунной плитой, простая посуда на полках, сияющие сковороды и кастрюли…
– Мама, кто там? – Из прикрытой двери высунулся парень лет двадцати, высокий и широкий, как шкаф. Вслед за ним показался еще один, не многим младше и не многим мельче.
– Тихо, дети, – женщина приложила палец к губам, – у нас гости.
Оба парня вышли из комнаты и, не взглянув на Йоку, молча уставились на Змая.
– Здрасьте, дети, – сказал Змай, и Йока едва не прыснул.
– Проходите в большую комнату, – велела женщина, показывая на другую дверь, – мне нечем вас угостить…
– И не надо, – оборвал ее Змай и подтолкнул Йоку вперед, – если позволите, водички бы…
– Конечно. Мальчики, достаньте морс. Садитесь. Вот сюда, здесь удобней.
«Большая» комната была маленькой, как гардероб. В центре громоздился круглый стол под вышитой скатертью, в углу – широкая кровать. На комоде между двух окошек стояли фарфоровые фигурки, старинная начищенная лампа с фитилем (а не солнечным камнем) внутри и нарциссы в тонкой вазочке. А рядом с ними – фотография в черной рамке.
– Сгиба не дожил… – снова вздохнула женщина, заметив взгляд Йоки. – Одного месяца не дожил…
– Мама, не надо. – Старший сын взял ее под руку и усадил за стол. А потом повернулся к Змаю. – Отец умер, как должно. Мы с братом готовы умереть так же. Если хватит сил…
– Типун тебе на язык, – проворчала женщина. – Сиди тихо и помалкивай! Умереть он готов!
– Я думаю, умирать пока рановато, – тихо ответил Змай и сел.
– Я ни о чем не спрашиваю, – женщина взглянула на Змая, – но все же…
– Мы пришли по делу. Этот парень ищет свою настоящую мать. Он подозревает, что она была мрачуньей и умерла или с его рождением, или сразу после него. Мы ездим по окрестностям Славлены и расспрашиваем тех, кто может помнить об этом.
– Когда родился мальчик? – с готовностью спросила женщина.
– Тринадцатого апреля четыреста тринадцатого года, – ответил Змай.
За столом вдруг установилась странная тишина. И если до этого на Йоку почти не обращали внимания, то теперь и мрачунья, и ее сыновья уставились на него пристально до неприличия.
– Тринадцатого… – наконец задумчиво сказал женщина и кашлянула. Йоке показалось, что ей стоило определенных усилий взять себя в руки и задуматься. – Мне было тридцать три. Я хорошо помню этот год. Мы тогда надеялись… Мы думали, объявится Вечный Бродяга. В Храсте никто родами в то время не умирал. Из наших, конечно. Забирали многих. Чудотворы тоже ждали Вечного Бродягу. Но беременных… Нет, здесь такого не было. Может быть, где-то в другом месте? Только сумасшедшие мрачуны живут в Храсте. Здесь всех подозревают в мрачении.
– Жаль, – ответил Змай. – Мы надеялись именно на Храст.
– Но… Может быть… – Женщина замялась. – Вы не допускаете мысли, что она могла умереть… раньше?
– Допускаем, – кивнул Змай, – если это не сказки.
– Как это, Змай? Как она могла умереть раньше? – не выдержал Йока.
– Это не сказки, это слухи. – Женщина не обратила внимания на восклицание Йоки. – Но очень достоверные слухи. Многие мрачуны говорили об этом. Но это случилось не у нас, и говорить об этом со мной бессмысленно. Я не хочу пересказывать слухов, в них могли многое переврать. А мальчик будет переживать.
Она вдруг посмотрела на Йоку ласково. Как-то по-особенному.
– Давайте так, – подвел итог Змай. – Вы расспросите своих, а мы приедем через неделю-другую.
– И я могу… рассказать о вас? – с надеждой спросила женщина, и лицо ее осветилось.
– Да. Можете. Но только своим.
– Змай, кто такой Вечный Бродяга? – спросил Йока, когда они двинулись обратно на станцию. Он был озадачен и задумчив.
– Так мрачуны называют Врага.
– Почему?
– Потому что он сын росомахи. Вечный Бродяга – прозвище росомахи.
– Послушай, ты что, всерьез допускаешь, что Врага могла родить росомаха?
– Всякое бывает в этой жизни. – Змай тоже был задумчив и время от времени вздыхал.
– Но почему мы тогда ищем женщину?
– Не искать же нам росомаху.
– Я не хотел тебя спрашивать, но все же: почему и мрачуны, и чудотворы принимают тебя за своего?
– Я уже говорил: я бог. Они это чуют. – Змай улыбнулся.
Йока проглотил эту явную отговорку: пусть не говорит. Но, похоже, его операция была подготовлена тщательней, чем Йока мог предположить.
– А откуда ты знаешь, когда я родился?
– Ты? Понятия не имею, когда ты родился. Тринадцатое апреля четыреста тринадцатого года – это четыре четверки. Четверка – число мрачунов. И считается, что появление Врага будет связано с четырьмя четверками. А ты родился тринадцатого апреля?
– Ну да.
– В Обитаемом мире в этот день родилось примерно пять тысяч мальчиков. Из них в Славлене и окрестностях – примерно двести пятьдесят. Я думаю, все они на заметке у чудотворов. Но я уверен: дата рождения Ве… Врага им неизвестна. Мрачуны не такие дураки, чтобы записать эту дату в метрике. Написали – четырнадцатое апреля, и все, никаких заметок у чудотворов. Как ты считаешь?
– Наверное.
– Поэтому я бы каждого мальчика с датой рождения тринадцатого апреля исключил из списка подозреваемых.
15 января 78 года до н.э.с. Исподний мир
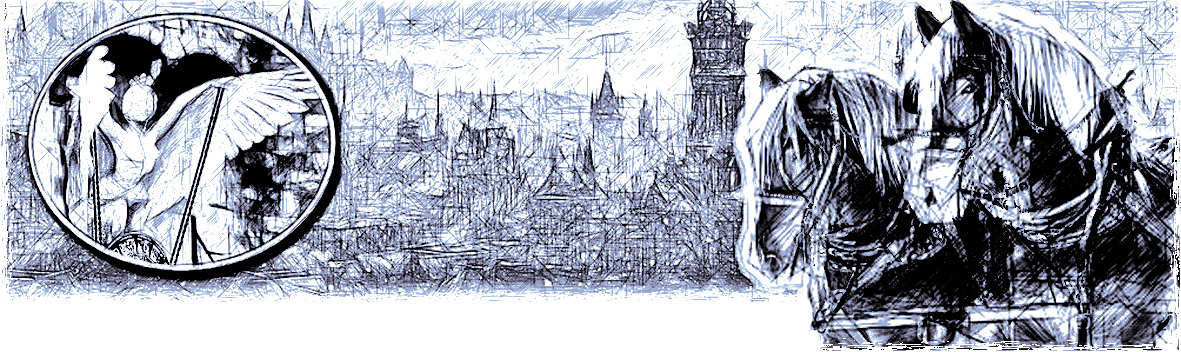
Собрание «лучших людей университета» возглавлял не ректор, как думал Зимич, а молодой и энергичный профессор философии. И студентов среди лучших людей было не меньше, чем профессоров.
Логик довольно точно изложил собранию то, о чем ему рассказал Зимич, не раскрывая его имени. И даже выдвинул несколько гипотез о чудотворах и их присутствии в Млчане. Об их интересах тоже. Впрочем, гипотезы эти посчитали чересчур невероятными, если не сказать – сказочными. Даже признать существование другого мира согласились не все.
Всем известно, что колдуны – люди немного сумасшедшие. Им подвластны стихии, но сами они не осознают природы этой власти, они лишь пользуются ею, поэтому опираться на их мнение людям науки не пристало. Мало ли что им грезится? Иные миры, добрые и злые духи…
Однако смертоносные лучи, которыми злые духи преграждают им путь в иные миры, слишком похожи на солнечные камни, горящие в храмах. И в самом деле, почему бы не допустить, что чудотворы и есть те самые злые духи? Это объясняет страх храмовников перед разоблачением и их желание уничтожить колдунов.
Утром, перед тем как идти на это собрание, Зимич заглянул-таки в храм – посмотреть и на солнечные камни, и на лики чудотворов, и на стенную роспись. И первым, на что упал его взгляд, был портрет Айды Очена – магистра славленской школы экстатических практик, систематизатора ортодоксального мистицизма, основателя доктрины интуитивизма и концепции созерцания идей. Однако на портрете (лике!) он был окружен ореолом волшебного света, не имеющего к науке никакого отношения. Кстати, рисовал портрет весьма даровитый художник. А вот роспись стен делалась совсем в другой манере, впрочем, не менее талантливо. Зимич брезгливо отвернулся от натуралистично-отвратительного изображения Кромешной и долго разглядывал солнечный мир Добра: художникам удалось создать соблазнительную картину, примерно так и выглядела солнечная полянка возле пещеры людоеда.
В храме было много людей и всего два Надзирающих. Люди – в основном женщины – на коленях стояли перед ликами чудотворов, неотрывно глядя на портреты, и что-то шептали одними губами. Не иначе просили, чтобы конец света не наступил… И хотелось подбежать, поднять их на ноги, крикнуть, что конец света выдумали нарочно, не надо унижаться, не надо просить! Это гнусно, гнусно – так издеваться над людьми! Гнусно заставлять женщин ползать по полу, гнусно обманывать простаков, верящих в добрые сказки! Даже если они сами хотят в них верить…
Зачем это магистрам, систематизаторам, основателям доктрин и концепций? И если у основания переворота стоят люди науки, а не тщеславные правители и не драчливые военачальники, то что это за переворот? Философ-отшельник вряд ли нуждается в столь унизительном для людей поклонении… Впрочем, Зимич судил о потребностях отшельника по себе.
Один из Надзирающих сподобился повернуться к толпе лицом и сделать два шага ей навстречу. И люди поползли к нему! На коленях! С благоговением в глазах! Надзирающий гладил их по головам – словно любимых собак – и протягивал руку для поцелуев. И они ее целовали: так в своре псов каждый норовит лизнуть хозяина. На его лице застыла маска снисхождения и любви, и только в самой глубине глаз нехорошим огоньком светилось самодовольство.
Зимич почувствовал, каким глубоким и неровным стало вдруг дыхание. И если пьяному Светаю хотелось дать в зубы, то Надзирающего стоило убить. Убить, потому что не место на земле человеку, который тешит свое тщеславие такой ценой… Пусть сам отправляется в свой солнечный мир Добра!
«Когда-нибудь тебе захочется убить того, кто сильней тебя»…
Ненависть – вот что превращает человека в змея. И было бы здорово стать змеем прямо здесь, в храме, на глазах людей: никто не усомнится, что это само Зло явилось в мир воевать с Добром. И толпа еще истовей станет ползать на коленях, еще убедительней просить спасения от Зла… Змей – символ конца света, вот для чего он нужен чудотвору по имени Айда Очен: ручной змей, вовремя появляющийся и по команде исчезающий. Грандиозное представление, после которого и у скептиков не останется никаких сомнений.
Зимич поспешил выйти из храма, но не так-то легко было успокоить бившееся сердце – от ненависти бившееся! И уже не смешно было вспоминать пафос профессора логики, готового умереть за свои убеждения.
И если Айда Очен ученый, то зачем это ученому? Как образованный человек может уподобиться тупому Надзирающему? Для чего?
Зимич хотел задать этот вопрос на собрании «лучших людей», но решил не привлекать к себе внимания. Да и обсуждение как раз вращалось вокруг ответа на него. Кто еще, как не ученые, могут разгадать замысел других ученых? Только вот беда: университету нечего было противопоставить храмовникам, кроме разговоров. И единственное, до чего ученые додумались, это написать письмо Государю.
Сочинять его стали тут же, всем собранием, перебивая друг друга и подскакивая с мест. Студенты выкрикивали едкие словечки, которые вряд ли могли стать убедительными, профессора старались держаться научного стиля, делая бумагу чопорной и еще менее вразумительной. Зимич долго боролся с собой, прежде чем подняться и подойти к декану философского факультета, который старался унять общий гвалт.
– Поручите мне написать это письмо, – сказал Зимич тихо.
– Стойко-сын-Зимич, если я ничего не путаю? – Декан улыбнулся. – Вы делали успехи, я помню. И ваши письменные работы тоже помню. Давно вас не было видно.
– Я уезжал…
Декан кивнул и хитренько усмехнулся: догадался, о ком рассказывал логик.
– Попробуйте, почему же нет? Вы когда-то отличались литературным талантом; думаю, он не иссяк.
Письмо Зимич сочинял весь вечер и всю ночь – не мог уснуть, отложить на утро, хотя спешить было некуда. Сначала составил план, потом подбирал нужные слова: простые и веские, убедительные. Много раз рвал написанное. А уже под утро, уверенный, что дело сделано, собрался поспать час-другой, даже не раздеваясь.
Но как только сомкнул веки, не то что задремал – оказался на пороге сна и яви, где путаные мысли кажутся важными, а бессмысленные иллюзии можно принять за откровения. И все рассуждения, звучавшие на собрании, и собственные размышления, и увиденное в храме, и услышанное от Айды Очена – кусочки цветного стекла неожиданно сложились в огромное мозаичное панно, выкристаллизовались в цельный образ. Образ этот был каким-то нелогичным, неправильным – но угрожающим.
Зимич открыл глаза. Снова сбилось дыхание, и болезненно-гулко билось под ребрами сердце. Образ ускользал вместе с дремотой, и всякая попытка его удержать лишь отдаляла его и отдаляла. Остался вывод: не владеть миром хотят чудотворы, а уничтожить его. Почему? Откуда появилась эта мысль?
Написанное письмо после увиденного не стоило и выеденного яйца, и Зимич порвал его снова. Срезал истрепанный кончик пера и макнул перо в чернильницу… То, что он хотел сказать, можно было уложить в три слова: это угроза миру. Это медленная его смерть. Но… ни одного аргумента Зимич добавить к этому не мог.
И письмо пришлось писать заново. В результате вышло не письмо, а что-то вроде стихотворения в прозе, предрекающего гниение и смерть Млчаны и процветание «мира Добра» – мира злых духов. Зимичу не понравился результат: неубедительно получилось, хоть и красиво. Он не стал рвать написанное, убрал его в ящик стола и, соединив обрывки предыдущего варианта, переписал его начисто.
10 мая 427 года от н.э.с. Раннее утро
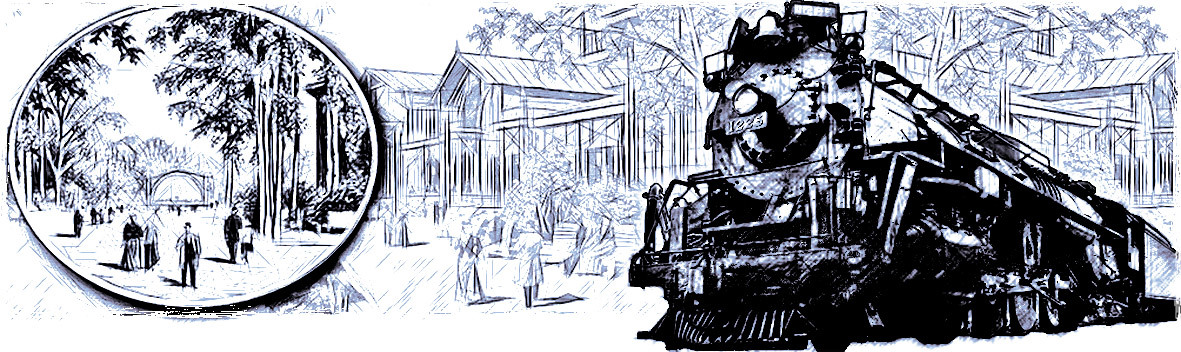
Воскресную встречу Стриженый Песочник назначил на половину шестого утра, когда полиция и добропорядочные граждане спят самым крепким сном. Йока выбрался из дома в сумерках. Он просыпался каждые полчаса, глядя на будильник, – слишком боялся опоздать и явился в парк едва ли не самым первым: прятался за кустами, промочил ноги росой и продрог. Туман был таким густым, что садился на лицо большими каплями, и вскоре челка прилипла ко лбу, а рубаха – к спине. А оделся Йока так, чтобы и не выделяться, и в то же время иметь вид романтический, соответствующий его настроению: в свободную белую рубаху, не стесняющую движений, с широким матерчатым поясом, несколько раз обернутым вокруг талии, и узкие брюки, заправленные в легкие сапоги. И не ошибся: многие из рощинских ребят оделись похоже и напоминали то ли благородных разбойников, то ли пиратов.
По дороге на сытинские луга Йока немного волновался. Он был одним из самых младших среди ребят Светлой Рощи (а набралось их человек сто, не меньше), поэтому старшие подбадривали его увесистыми хлопками по плечам. Вместе с ребятами чуть поодаль шли девушки – и ровесницы Йоки, и совсем взрослые девицы на выданье – поддержать своих парней. Их было немного – не больше десятка. И он вдруг вспомнил сны о танцующей девочке. От волнения это воспоминание показалось особенно будоражащим, Йока представил на секунду, что и эта девочка из снов могла бы идти сейчас вместе с рощинскими девчонками и поворачивать голову, высматривая его в толпе. А потом не мог отделаться от ощущения, что так оно и есть.
Солнце только-только поднялось из-за горизонта, разогнав туман и розовые сумерки, когда впереди показался выжженный широкий луг, еще местами дымившийся и пыливший черной золой. Но сквозь черный прах прошлогодней травы уже виднелись молодые ростки. Сытинские луга были местом во всех отношениях удобным: далеко и от деревни, и от Светлой Рощи, без проезжих дорог рядом, с двух сторон прикрытое березняком.
Через поле навстречу рощинским шла толпа ребят из Сытина. Они не были похожи на пиратов, скорей на разбойников, но не благородных героев приключений, а разбойников с большой дороги – в длинных льняных рубахах навыпуск, в шапках и тяжелых сапогах из грубой кожи. И оружие их впечатляло: почти все они были вооружены цепями, в то время как рощинские в большинстве предпочли металлические прутья, издали напоминавшие шпаги.
Стриженый Песочник вышел вперед, навстречу предводителю сытинских. Они перекинулись двумя-тремя словами и громко повторили немногочисленные правила: выбросить ножи, не бить по лицу, по шее и ниже пояса, не бить лежачих. Победа признается за теми, кто дольше всех продержится на «поле боя» и не отступит за проведенную за спиной черту.
Йока не чувствовал страха, только волновался все сильней и сильней, до нервной дрожи. Страх появился потом, когда настало время сходиться. Это очень мало напоминало уроки фехтования и вольной борьбы, зато было похоже на настоящий бой, как его описывали в книгах. Два «войска» ринулись навстречу друг другу, словно собирались смести, растоптать противника. И ножи показались Йоке не самым опасным оружием по сравнению с тяжелыми цепями и толстыми железными прутьями. Да и шипастые кастеты, надетые на руки почти у каждого сытинского бойца, не оставляли сомнений: один удар такой штукой в лицо если не убьет, то точно покалечит.
Йока в начале даже задохнулся от страха, ощущая, как кровь отливает от головы, а ноги делаются ватными и холодными. И сделать шаг вперед – все равно что прыгнуть в воду с вышки. Если не прыгнешь, засмеют. Засмеют, даже если на секунду задержишься, отстанешь. Йока бежал вместе со всеми и не чувствовал под собой ног: пространство вдруг сжалось до узкого пятачка, за пределами которого ничего не существовало, только он сам и противник впереди. Может быть, это потемнело в глазах?
И страх отпустил в тот миг, когда железный прут принял на себя удар цепи, нацеленный в лицо: цепь обвилась вокруг прута несколько раз, Йока подхватил прут за другой конец, надеясь лишить противника его оружия. И прикрывался плечом от ударов кастетом, не чувствуя боли.
Это была не столько драка, сколько давка и свалка, ничем не отличавшаяся от мальчишеских побоищ, за исключением оружия и крепких словечек, которыми так и сыпали обе стороны. Йока никогда не боялся крови и теперь ее не замечал – ни своей, ни чужой. Сытинские нарушали правила, целились по лицу, зная, что так проще всего напугать и заставить противника отступить. Сперва Йока боялся выронить оружие: поднять что-то с земли в толпе было невозможно, а драться голыми руками против цепей и кастетов казалось бессмысленным. Но вскоре стало понятно, что и прутья, и цепи – детские игрушки по сравнению с кастетами и кулаками: из игры бойцов выбивали удары в подбородок, в солнечное сплетение или в болевые точки. И снова становилось страшно, когда рядом кто-нибудь с воплем падал на землю, перегнувшись пополам, или как сноп навзничь валился с ног. Сытинские – как и рощинские – безжалостно добивали тех, кто еще не упал, но согнулся или опустился на одно колено.
Рощинские теснили сытинских, и это вселяло уверенность и силу. Йока прорывался вперед, и вскоре рядом оказался Стриженый Песочник – веселый, с красным лицом, на котором проступили крупные веснушки.
Драка выкосила не меньше двух третей бойцов, некоторых оттаскивали в сторону товарищи, но многие, отдышавшись, поднимались и возвращались на поле боя. И свалки уже не было, каждый старался найти противника по силам, а лучше – кого-нибудь послабей, чтобы вывести его из игры быстро и без потерь. Йоке выбирать не приходилось, даже его ровесники из Сытина были крепче его и шире в кости. То, что он продержался так долго, можно было причислить к подвигу. И Стриженый Песочник, как-то раз снова оказавшись рядом, подмигнул ему удовлетворенно и ободряюще. Может быть, именно это придало Йоке сил, и он мастерским ударом вывел из игры парнишку, неуклюже и сильно махавшего железным прутом: уроки фехтования не прошли даром!
Парень, с которым Йока схватился после, был немногим старше, на каждой руке имел по кастету и дрался двумя цепями сразу. Их поединок оказался недолгим. То ли предыдущая победа так окрылила Йоку, что он позабыл об осторожности, то ли противник оказался ловчее, но Йока не успел прикрыться от удара с левой руки. Удар прошел вскользь и был не очень-то сильным – без хорошего замаха, – но цепь ударила по лицу, задев нос и припечатав щеку под глазом. Йока на несколько секунд ослеп от боли и выронил прут, закрывая лицо руками. Его качнуло назад, он попятился, из носа хлынула кровь, мгновенно наполняя рот, а боль все не отпускала. И тут сквозь пелену слез он увидел, что его противник замахивается снова, на этот раз правой рукой и изо всей силы. Йока не столько испугался, сколько растерялся: безоружного? Он краем глаза заметил Стриженого Песочника, рванувшего ему на помощь, но в этот миг его захлестнула сумасшедшая злоба, какая-то неуправляемая ярость: это против правил! Йока поднял лицо, глядя в глаза противнику, и качнулся в его сторону, зная, что сделать ничего не может.
То, что произошло потом, Йока объяснить не мог. Его противник в одно мгновение обмяк и шагнул назад. Руки его разжались, цепь пошла вперед по инерции, ударяя Йоку в плечо, и довольно сильно, но совсем не так, как могла бы ударить. Сытинский развернулся и бросился прочь, крича «мама!» во все горло. Йока нисколько этому не обрадовался, продолжая зажимать руками нос, из которого кровь лилась ручьем. Слезы все так же бежали из глаз, его шатало, и он бы наверняка повалился на землю (а ему очень хотелось повалиться на землю и свернуться клубком), если бы его за плечи не подхватил Стриженый Песочник, увлекая за собой в сторону.

