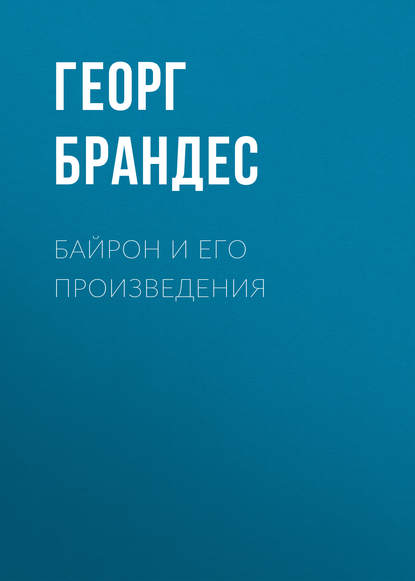 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Байрон и его произведения
III
Когда Байрону пришлось во второй раз сделаться бесприютным и одиноким скитальцем, он снова принялся за путевую поэму своей юности и прибавил к «Чайльд Гарольду» третью и четвертую песни. Он снова исполнился настроениями своей юности; но какую полноту приобрели они в этот промежуток! Аккорд, раздавшийся в первый раз в «Чайльд Гарольде», превратился теперь в тройственное созвучие одиночества, меланхолии и стремления к свободе. Каждый из его звуков, взятый в отдельности, сделался теперь несравненно чище и благозвучнее, чем он был в прежнее время.
Вся первая половина произведения проникнута чувством одиночества, обусловливающим любовь к природе; уже здесь во второй песне (строфы 25 и 26) говорится: «Сидеть на скалах, мечтать над волнами, бродить по дремучим лесам, спускаться к пропастям, сидеть, склонясь над водопадом, – не есть одиночество, но внутреннее общение с природой; напротив, лишь тот, по праву, может называться одиноким, кто живот в шумном вихре света, ни кого не любя и сам не любимый никем». Но эти грустные чувства были или навеяны ему воспоминаниями о чудно проведенном детстве в горах Шотландии, или вызваны видом жилища пустынников на Афонской горе. Существовала также у Вордсворта, на ряду с чувством одиночества, любовь к природе, любовь, которая покоилась на отвращении к незнакомому и чужому миру людей. Разница между чувством Вордсворта и Байрона заключалась в том, что Вордсворт к впечатлениям природы относился как-то вяло и мешковато, как сельское дитя или как пейзажист, тогда как Байрон относился к ним с томительною и нервною любовью городского жителя, и еще в том, что Вордсворт искал природы обыкновенно в спокойном состоянии, а Байрон лучше всего любил ее созерцать разгневанною (песнь II, стр. 37). Во второй половине поэмы чувство одиночества совсем иного характера. Очень большая разница между влечением к уединенному общению с природой, испытываемым Гарольдом в его юности, и тем влечением, которое он ощущает к зрелости, как человек, узнавший людей и жизнь. Но ненависть к людям, по отвращение к ним, как результат пресыщения, заставляет теперь поэта полюбить немую природу. Все светское общество, играющее главную роль в столице, которое постороннему взгляду казалось таким гуманным, предупредительным, справедливо думающим и рыцарски чувствующим, все оно обратило к нему свою грубую сторону, и эта оборотная сторона весьма поучительна, но отнюдь не красива. Он испытал, какого рода дружбу оказывают тому, кто упал в мнении общества, и узнал, что единственный фактор, на которого может с уверенностью в успехе рассчитывать всякий, желающий осуществить свои планы в будущем, есть эгоизм и вытекающие из него последствия. Таким образом, он во второй раз остался наедине с самим собою, и поэзия, которой он теперь отдался, писалась им не для общественных натур. Но тот, кто хотя бы на короткое время повернулся спиною ш. людям, кому было знакомо стремление навсегда покинуть свою родину или уехать на время из своего отечества, чтобы на время не видать знакомых ему лиц и отдохнуть душою под чужим небом и на чужой земле, кто при одном лишь приближении человеческого существа терял расположение духа и сразу омрачался, – в душе того не могут не откликнуться лирические песни. Чайльд Гарольд один. Он понял, что совсем неспособен идти нога в ногу с другими людьми, что он не в состоянии свои мысли подчинять господству посторонних мыслей или умов, против которых восстает его собственный ум, или допустить какое-нибудь насилие над своей душой. Где высятся горы, там он чувствует себя посреди друзей; где бушует море, там его родина. Поэма, которую природа создает солнечными лучами на зеркальной поверхности вод, для него милее, чем книга на языке его родной страны. Среди людей ему так-же тяжело, как тяжело вольному соколу, которому обрезали крылья. Но хотя он и бежит света, по все-таки не ненавидит его; не из негодования и не из гордости душа его углубляется в свой собственный источник; она боится излиться в толпе людей, где один миг может разрушить все наше счастье, так что «вся кровь наша превратится в слезы». Разве не лучше, спрашивает он, быть одному и составлять как-бы часть окружающего мира, в то время, как взоры твои услаждаются видом высоких гор, тогда как городской шум для тебя хуже пытки, и в то время, как горы, небо и море составляют часть твоей души, как ты их душу, и когда любовь к ним составляет для тебя величайшее счастье? Но в этом одиночестве душа его находит бесконечную жизнь, ту истину, с которой он мог стать выше личного сознанья. Гарольду свет чужой, и он чужд свету. Он гордится тем, что никогда не льстил его похотям, никогда не преклонялся пред его кумирами, никогда не вынуждал себя улыбаться тому, что считал бесчестным, и никогда не был эхом тех мнений, которые выкрикивались толпой. Он был среди них, по был для них посторонним. Теперь он хочет открытым врагом расстаться со спетом, которого он не любил и который за эту нелюбовь заплатил ему с большими процентами. Он полагает, говорить он, и этому научился он из собственного опыта, что существуют на целом свете и такие слова, которые равнозначущи славным делам, что существует надежда, которая не обманывает, истинное сострадание и двое-трое искренних людей[11].
Таким образом, чувство одиночества переходит в чувство меланхолии. И эта струна была затронута в первых двух песнях, по там меланхолия была чисто юношеским недовольством. Растраченная без пользы молодость лежала позади Чайльд Гарольда, и он, подобно флениттноми/мелапхолику Гамлету, между могильщиками, стоял у могилы Ахиллеса и взвешивал, с черепом в руках, цену жизни и бренной славы, между тем как он, еще не испытавший прелести славы, теперь ни к чему так страстно не стремился, как к славе, к этой, для виду-то и выдуманной философией, презираемой, ничтожной славе. Теперь он ею насладился и узнал, какая она малопитательная пища. Сердце его походит теперь на разбитое в куски зеркало, которое один и тот же образ отражает в тысяче видах, и этот образ тем труднее забывается, чем на большее количество кусков разбито зеркало. С страшно надломленными силами, он ищет в природе того, что своим контрастом могло-бы хоть несколько унять его муку, – од ищет открытый свободный океан, седою гривою которого он забавлялся еще в детстве, и который знает его, как конь своего всадника и господина; он любит море, потому что оно одно не знает разрушения, одно не покрыто морщинами старости и одно имеет тот-же вид, какой имело в утро времен. Но все в природе напоминает ему о муке и борьбе. Отдаленный гром, как грозный колокольный звон, будит в нем все, что в нем уже успокоилось. Даже маленькое озеро Неми не производит на него мирного, кроткого впечатления: оно кажется ему «спокойным, как затаенная ненависть» (песнь IV, стр. 173), Его меланхолия чисто холерического свойства. Если-бы он мог всю свою страсть, выразить одним словом, и это слово было-бы так-же разрушительно и страшно, как молния, он и тогда-бы не задумался сказать его. Все лучше покоя! Вой. его лозунг: покой – ад дли сильных душ. Душевный пыл, раз загоревшись, никогда не потухнет, но все растет и растет и, наконец, принимает исполинские размеры. Это – лихорадка, не понятная для того, кого она охватывает. «Та лихорадка», говорит он, «возрождает
Безумцев, бардов, королей;Она на битвы призываетВокруг разбитых алтарей;Она творит людей движенья,В которых кровь живей бежит;На их дела, на их стремленьяТолпа, смелей, порой глядит.Что-жь за причины их терзанья?О, как-бы были хорошиХотя-б одной такой душиДля нас открытые признанья:Тогда-бы все мы, может быть,Не стали славу так любить.В душе их – буря; жизнь – волненье;Хоть часто губит их оно,Но без борьбы, но без паденьяИм в мире жить не суждено.Покой их давит вечной скукой;Им нужны: ненависть, вражда…Так спалены борьбой и мукойОни потухнут навсегда,Как постепенно потухаетБез дров оставленная печь[12]Ах, восклицает Чайльд Гарольд:От юных лет мы вянем хило,Бредем без цели целый век,Хоть до конца – вплоть до могилы –Все ищет слабый человекКакой-то призрак; но проклятьеНа нем с пелен еще лежит.О, слава и любви объятья!То и другое нас мутит,То и другое минет скоро.Их безобразна красота,Они исчезнуть, как мечта,Как блеск случайный метеора;Их тушит вдруг столбом своим.Зловещей смерти черный дым[13].Жизнь наша – вечный грех природы.Наслание небесных кар,Клеймо судьбы, позор свободы;Жизнь ноша – то же, что АнчарС его смертельною отравойИ ядовитою росой.Жизнь служит хищною забавойДля мук, недугов; смерть с косойЗа ней следит. Жизнь есть страданья,Хоть их, порою, не видать:Они сумеют истерзать,Изгрыст всю грудь без состраданья,А в сердце боль царит одна,Неукротима и сильна.Но среди всего этого мрачного недовольства, которое тяжелым бременем ложится на душу человека, вместе с неизбежною мыслью о всеобщей жалкой доле, удачно названною у немцев «Weltschmerz» (мировая скорбь), любовь к свободе – третий основной мотив поэмы, уже встречавшийся в двух первых песнях «Чайльд Гарольда», является единственною спасительною силою, единственною силою, которая указала жизни практическую задачу. Еще в Португалии воскликнул он:
О, дли чего в стране свободнойНарод свободный не живет!А испанцам он трубит на ухо:
Сыны Испании, проситесь!Оружье в руки и – вперед!На крик призывный отзовитесь:Вперед! Нас рыцарство зовет[14].Ужетогда он обратился к угнетенному греческому народу с увещанием:
Рабы! Норазве вы забылиКому свободы садок дар,Те рабствау сами наносилиВ бою решительный удар.Защиты-ль русского народаВы ждете? Галл-ли вас спасет?!Но пусть ваш враг от них падет,А все-ж желанная свободаНе будет Греции дана,Меняй-же, бедная страна,Своих владык – они могучи –Но над тобой все будут тучи…[15]Когда восстанут легионы,Проснутся Аттики сыныИ снова греческие женыРодят героев для страны,Тогда лишь только край узнаетИную жизнь, устав страдать…[16]Но его тогдашняя любовь к свободе была чисто политического характера: это было негодование свободного англичанина, видевшего, как другие народы не в силах свергнуть с себя иго чужеземного владычества, иго, которого его народ никогда на себе не испытывал, да и не в силах бы был выносить его. Теперь же он берет свободу в более широком, полном, общечеловеческом смысле. Теперь он чувствует, что свободная мысль есть исходной пункт всей духовной жизни. Да, говорит он (песнь IV, стр. 127. Сравни «Дон Жуан», песнь IX, стр. 24):
Все ж будем размышлять мы смело.Бесчестно отступать от прав:Мысль – наше право, наше дело,И я храню её устав.Хоть с дни рожденья мысль в нас гнали,Ходили к пыткам и на казнь,Терзали, жгли и оскорбляли,Хотя завистливо боязньЕе во мраке содержали,Чтоб с светом не жил человек,Но все-ж порою надел век,Что мысль лучом споим сияла –И мы узнали, наконец,Что прозревает и слепец.Он не желает ограничиваться одним размышлением, он хочет действовать. Он зовет время, этого великого мстителя, напоминает ему, что спокойно и с гордостью сносил ненависть света – всякого рода ненависть пришлось ему изведать[17] – и заключает мольбой:
Ужель свой крест напрасно я носил?Когда он затем переезжает из страны в страну, то его личное горе постепенно стушевывается при виде огромных развалин Рима, и он, подобно Сульпицию Шатобриана (Мученики), чувствует все ничтожество своего рока в сравнении с роком, стершим с лица земли города Греции.
О Рим родной! Друзья страданьяПускай к тебе теперь придут:Ничтожно горе наше тут.Что наша скорби и рыданья?[18]Здесь вставилаМегара прямо предо мной,А сзади – новая картина –Лежали: древняя Эгива,Парей, Коринф… Влеком волной,Смотрел я, грустен и печален,И мне казалось, что ониСтоят теперь, наг и в те дни,Когда на груды их разваливИ исторических руинГлядел друг[19] Туллия один.[20]И когда, не довольствуясь одною мыслью о свободе, обращает он свои взоры на внешния события и занимается ими, то не только повторяет свои прежния воззвания к угнетенным, как например (IV, 18) к Венеции, о которой говорит, что она целые века славы потопила в грязи рабства и что лучше было бы ей погрузиться в море, чем переживать подобный позор; но восстает против победителей при Ватерлоо, и от обозрения внешней стороны политической борьбы переходит к рассмотрению её социального значения. «Конечно, говорит он:
Французы памятник сложилиИз предразсудков долгих лет,Кулисы дряхлые сломили! –И много лжи увидел свет.Но вместе с злом уничтожалисьНачатки прежнего добра;Одни развалины остались,Обломком пыльная гора.На них опять такие-жь зданьяРосли, как некогда, из тьмы…Опять бесправье, гнет тюрьмыИ воскрешенное преданье,Опять цепей позорный звон,А честолюбец все силен[21].Не будет длиться это долго!Уж силы чувствует в себеНарод.И хотя Франция, опьяневшая от крови, совершила целый ряд ужасных преступлений (IV, 97, 98 и 137).
Но все-же ты жива, свобода!Твой стяг, изорванный кругом.Стоить святыней у народа;Твой голос, слышный словно гром,Теперь, усталый, грянет снова.И в сердце дерева больного,Под старой, ветхою корой.Где след оставила секира.Еще теперь кипит для мираСок жизни с прежнею игрой,И семена его донынеНайдем и в северной пустыне.И скоро миру лучший плодВесна иная принесет.Но я на свете жил не даром.Быть может, ум мой ослабелИ кровь бежит не с прежним жаром,Но я за то в борьбе сумелСмирить и время, и мученья;И даже после погребеньяОстанусь жить с своей тоскойИ долго над душой людскойНезримо буду я склонятьсяИ каменистую их грудьЯ разбужу когда-нибудь –И в ней тогда зашевелятсяИ угрызенья, и тоска,Им неизвестные пока.Так, в этой чудной поэме, чувства одиночества и меланхолии сливаются вместе с любовью к свободе, и с каждою песнью внутренний мир поэта все более и более расширяется и растет. Вордсворт воплотил свое я в орган для Англии, Скотт и Мур все чувства, лежавшие в шотландских и ирландских сердцах, выразили в своих песнях. Но я Байрона имеет общечеловеческую форму, его опасения и надежды присущи всему человечеству. После того как это я мужественно уходит в самого себя и углубляется в свое личное горе, последнее расширяется в грусть о жалкой доле всего человечества, грубая, эгоистическая кора спадает и глубокий энтузиазм к свободе пролагает себе путь, чтобы охватить и возвысить все современное поэту поколение. Тогда поэт исполняет свою службу Богу, и душа его просветляется благоговением: как древние персы, воздвигавшие свои алтари на вздымавшихся к небу скалах, преклоняет он голову в великом храме природы, созданном из воздуха и гранита.
IV
Посетивши Ватерлооское поле сражения, Байрон отправился вверх по Рейну в Швейцарию, где и поселился на Женевском озере. В одном из тамошних пансионов он встретился с Шелли, который был четырьмя годами моложе его. Шелли, в свое время, как-то послал ему «Королеву Маб», но письмо, сопровождавшее посылку, до Байрона не дошло, и таким образом, между ними не возникло никакой переписки. Он прибыл туда двумя неделями раньше Шелли вместе с Мэри Годвин и её сводной сестрой, мисс Джэн Клермон, которая еще в Лондоне была страстною поклонницею Байрона. Побочная дочь Байрона была плодом его непродолжительной связи с этою молодою девушкой.
Жизнь вместе с Шелли имела на ум Байрона одно из сильнейших и глубочайших влияний, к которым он был так восприимчив. Наибольшее впечатление на Байрона произвели личность и мировоззрение Шелли. Первый раз в своей жизни Байрон стоял лицом к лицу с умом, для него совершенно незнакомым и свободным от всяких предразсудков. При всей своей гениальной способности усваивай, все то, что согласовалось с его натурою, ему только на половину удалось овладеть и литературным образованием, и философией, и он в большинстве случаев руководился более симпатиями, нежели убеждениями. Шелли предстал пред ним теперь, как истый жрец гуманизма, пламеневший одушевлением и не терзавшийся никакими сомнениями. Рассеянная жизнь в лондонских салонах и сокрушающий гнет тяжелой доли Байрона тревожили его душевный покой и не давали ему много размышлять над метафизическими вопросами и о преобразовании человечества; он был слишком занят самим собою. Теперь же, в тот именно период своего поэтического развития, когда в нем стало утихать его собственное я, он встретился с умом, который крестил его огнем. Душа его всецело отдалась новому влиянию; это влияние легко можно проследить в целом ряде стихотворений, написанных им за это время. Многие пантеистические идеи, высказанные им в III-ей песне «Чайльд Гарольда», несомненно, более чем на половину обязаны своим появлением разговорам с Шелли, в особенности то чудное место (III, 100 etc.) о всемогущей любви, как духе природы, что у Шелли выражается в учении о любви и красоте, как мистических силах, разлитых по всему миру. В одной из своих тогдашних заметок в записной книжке он даже до того далеко заходит в своем шеллиевском пантеизме, что чувство, которое охватывает Кларенс и Мельори (сцена из «Новой Элоизы» Руссо), называет чувством высшего порядка, как симпатию с единою страстью; «это», говорит он, – «чувство о существовании любой в самом высоком и самом широком значении этого слова и о нашем собственном участии в её благодати и славе; это – великий принцип вселенной, который воплощен здесь в более поэтическом образе, чем где бы то ни было, и в котором мы бессознательно принимаем участие и теряем свою индивидуальность, проявляя себя в красоте целаго». Внешнее влияние Шелли легко усмотреть в сцене духов в «Манфреде» и особенно в третьем акте этой драмы, переработанном по его совету. Наконец, «Каин» никогда бы не носил в себе той печати, которая лежит теперь на этом произведении, если бы Шелли не принял прямого участия в этой мистерии, или если бы Шелли совершенно вычеркнуть из жизни Байрона.
Оба поэта побывали вместе в Шильоне и его окрестностях, и тут Байрон встретил второе сильное впечатление, впоследствии весьма плодотворно подействовавшее на него, – впечатление, произведенное на него альпийским хребтом. Для него, еще так недавно дышавшего удушливою атмосферою лондонских гостинных, было чрезвычайным удовольствием спокойно наслаждаться созерцанием вечных снегов, любоваться горами, гордо поднимающими свои головы над людской суетой. Его предшественник, Шатобриан, ненавидел Альпы: их величие действовало подавляющим образом на его тщеславие; Байрон же, наоборот, среди них чувствовал себя, как дома. «Манфред», поэтическое достоинство которого именно и следует искать в том, что драма эта есть собственно альпийский ландшафт, и притом, ландшафт бесподобный, возник непосредственно из этих картин природы. Тэн крайне резко отозвался, сказав, что альпийские духи в «Манфреде» только театральные божества; но Тэн, когда писал это, еще не знал Швейцарии. Нигде природа так не напрашивается на олицетворение, как здесь. Даже обыкновенный турист чувствует к этому некоторое поползновение. Я помню, как однажды вечером, я, стоя на Риги-Кульм, любовался на прекрасные озера у подошвы горы и на небольшие облачка, тянувшиеся вдали внизу над их зеркальною поверхностью. Вдруг, с самой окраины небосклона, скатился небольшой белый облачный шар. Минуту спустя, когда он достиг Пилата, он превратился в огромный слой тумана. С неимоверною быстротою распространился он по небу и края его облачного плаща раскинулись на несколько миль по обе стороны. Туман этот спустился затем на поверхность озер, окутали» своей пеленою зубцы скал, горные хребты, проник в глубокия пропасти, затем еще развернул свои края, поднялся клубами, подобно дыму к небу, свинцом упал на города, поглотил все краски и разлился всюду серым мрачным светом. Белизна снега, зелень деревьев, тысячи разнообразных цветов и теней, – все это в один миг исчезло, слилось в однообразную массу. Взор, который только что еще свободно парил над неизмеримою поверхностью, теперь оказывается неотступно прикован к безобразной массе, которая с быстротою и силою мирового тела в его первобытном состоянии летела на зрителя. Казалось, небесное воинство, сотни тысяч воздушных всадников в сомкнутых колоннах, на крылатых, безмолвных конях, вихрем несутся, беспрепятственно и бесследно истребляя все на своем пути, подобно азиятским ордам или гуннам Аттилы. Житель севера, при виде подобной картины, невольно вспоминал о нашествии варваров. В ту минуту, когда облако достигало края Кульма, стоявшие вне его теряли други» друга из виду и один за другим исчезали в этом облаке, которое плотно охватывало каждого своею густою влагою, замыкая уста и тяжело ложась на грудь. – Картины природы такого рода послужили Байрону материалом для сцен, в которых духи являются Манфреду. Наброски из дневников поэта, один за другим, перешли в его поэму, и нередко выражения в их первой, беглой редакции гораздо пластичнее, чем в поэме, куда они впоследствии переходили.
Но как ни плодотворны были прогулки Байрона вместе с Шелли, их все-таки сумели до некоторой степени отравить. Туристы, их земляки, но давали им нигде покою своим любопытством и с невероятным нахальством проникали в дом к Байрону. Если их почему либо не принимали, то вооружившись длинными подзорными трубами, они располагались для своих рекогносцировок где-нибудь на берегу озера или на дорогах, взбирались на заборы, подкупали прислугу, гондольеров, чтобы выведать от них какой-нибудь скандальчик. Байрон и Шелли живут-де с двумя сестрами, – вот первая сплетня, пущенная в ход, и чем больше народная молва превращала обоих поэтов в воплощенных дьяволов, тем сплетни эти становились гнуснее и гнуснее. Поэтому нет ничего удивительного, что, когда Байрон однажды вошел в гостинную г-жи Сталь, жившей в Коппэ, одна благочестивая старушка, мистрис Гервей, писательница английских романов, при виде его, упала в обморок, «словно увидала она, говорит Байрон, – самого сатану».
Если мы хотим понять настоящую причину теперь уже для нас смешного ужаса, который внушала личность Байрона, то нам придется обратиться к распространившейся в Англии о нем клевете, о которой он узнал впервые только здесь, на берегу Женевского озера. Это была клевета, которую преподнесла свету г-жа Бичер-Стоу якобы со слов лэди Байрон, «в то время как небесное сияние покоилось на воздушном челе этой дамы», – история о преступной связи Байрона с его сестрой, мистрис Лэй. История эта, в точение года, превратилась у лэди Байрон в idée fixe, так что она, как свидетельствует об этом появившаяся в 1869 году книга «Медора Лэй», не постыдилась дочери, Августы Лэй, обратившейся к ней за помощью по причине стесненных обстоятельств, и объявила ей, что она дочь не полковника Лэй, а лорда Байрона и его сестры. При этом г-жа Байрон сказала, что она будет постоянно заботиться о ной, а впоследствии, разумеется, оставила ту на произвол судьбы. Об этом обвинении Байрон, покидая Англию, или знал очень мало, или совсем ничего не знал. Он с трудом читал все статьи, направленные против него. Сам он говорит: «Только спустя довольно долгое время после моего отъезда, известили меня об отношениях ко мне и сплетнях моих врагов. Мои друзья должны мне многое сказать, о чем скрывали от меня». Только в Швейцарии узнал он все от одного из своих друзей. Этим объясняется истинный смысл стихов, с которыми поет из Швейцарии обращается к Августе (Чайльд Гарольд, III, 55):
Да, он любил одно созданье,И связь, сильней законных уз,Связала их: ей нет названьи.Был чист и крепок их союз.Во всем далеки лицемерья,Они не видели бедыВ нападках модного поверьяИ не боялися вражды;Ничто любви не угрожало,И ей-то с чуждых береговМотивы тихих, нежных строфГарольду Муза напевала,И повторяет он за нейСлова мелодия своей.Стансы, написанные Байроном к Августе, свидетельствуют, что и она также знала об этих гнусных сплетнях.
Этот удар невольно заставил Байрона сразу переменить взгляд свой на жену. В первое время после размолвки, он говорил: «Я не могу себе представить, чтобы можно было найти такое веселое, доброе, милое и ласковое существо, как она»; всю вину поэт приписывал своей вспыльчивости и легкомыслью, – теперь он видит только темные стороны её характера и под этим впечатлением объявляет беспощадную войну женщине и недостойным образом выводит ее, в лице Инесы, в первой песне «Дон-Жуана». Веское доказательство, поистине уничтожающее все обвинения против лэди Байрон, появилось в октябре 1869 года в «Quarterly Review». Там были перепечатаны семь писем, которые лэди Байрон писала к мистрис Лэй, и которые были полны равными нежностями и уверениями в любви. Так, между прочим, она говорит: Было-бы «великим утешением» узнать, что мистрис Лэй находится при своем муже; она теперь имеет полное право называть ее «своею дорогою сестрою», и надеется, что это не повредит тому доброму расположению, которое питала к ней всегда мистрис Лэй. «В этом отношении, по крайней мере», Пишет она, «я – сама истина, когда говорю, что, каково-бы ни было мое положение, никто не будет мне дороже и милее тебя. Чувства эти не изменятся ни при каких переменах. Если даже ты меня осудишь, я все-таки не буду тебя менее любить». Так писала лэди Байрон к той, которая несколько лет спустя обвиняла ее в том, что та было прогнала из дома её супруга. Но этого мало. Дружеская переписка между лэди Байрон и мистрис Лэй продолжалась до самой смерти Байрона. Еще последнее неоконченное письмо Байрона начинается словами: «Моя дорогая Августа, несколько дней тому назад я получил от тебя и от лэди Байрон известие о состоянии здоровья Ады». И после этого они хотят уверить, что лэди Байрон всю свою жизнь видела в Августе, которая была постоянною посредницею между супругами, гнусную преступницу, которая оказалась виновницею всего её несчастья. Какой хаос лжи и безумия.



