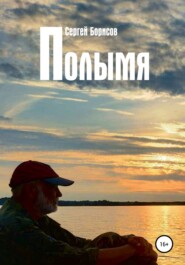скачать книгу бесплатно
Так, что там сверху? «Четыре нуля». Это о книгах. И о людях, конечно, их мироощущении, сказал же кто-то, что мир человека – в себе, и в его воле превратить этот мир в рай или ад. Когда же это было написано? Где-то в начале двухтысячных, но идейка мелькнула еще в армии.
-–
Он прислушался к совету Путилова. Сам вызвался, и оказалось – ничего сложного. Начальник строевой части, ознакомившись со свежеиспеченным рефератом, остался настолько доволен, что соизволил молвить: годится, пожалуй, не хуже тех, что… «Ошибаетесь, товарищ капитан, – подумал он прежде, чем была произнесена понятно какая фамилия. – Лучше, чем у Борьки».
И понеслось! Он прилежно строчил курсовые и прочую лабуду, без которой офицеру не подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. Таким образом, план, очерченный Путиловым, был успешно реализован.
И перевыполнен. Вспомнив навыки, полученные в школе, он занялся переплетным делом. «Коленкор не трожьте, лидерин берите, он красивше, глаже и воду держит, и клей мажьте ровно, без затеков», – внушал малолетним оболтусам трудовик, тридцать лет оттрубивший в типографии «Московский рабочий», после выхода на пенсию не усидевший дома и заделавшийся педагогом в берете и сером халате. Можно ли было представить, что это когда-нибудь ему пригодится? Надо будет, думал Олег, полосуя скальпелем дерматин – откуда в армии коленкор с лидерином? – после дембеля зайти в школу, проведать старика, вдруг живой, тянет лямку.
В общем, через пару месяцев после того, как Путилов отчалил на гражданку, он был уже в седле, и ноги в стременах. В штабе и во взводе все было пучком. Получив положенное количество ударов ремнем по седалищу и заглотив кружку отвратительного пойла – бормотухи местного розлива, он был переведен в следующую категорию, что предполагало расстегнутый воротник кителя, кирзачи гармошкой и кучу иных прав при минимуме обязанностей. Оставалось только тихо-мирно ждать увольнения в запас.
Он клепал рефераты, резал-клеил папки и кляссеры для начштаба. Потом втихую стал мастырить дембельские альбомы, украшая обложки, которые обтягивал шинельным сукном, значками и лычками. Благодаря такой эксклюзивной продукции он пользовался большим уважением среди полковых «дедушек», даже большим, чем Путилов. Все складывалось оте-нате, только эпистольских булочек было жалко, от них остались лишь ностальгические воспоминания. Эпистол ушел на дембель в числе последних, и кто знает, дождались его три девицы или нет, остановился он в выборе или пустился во все тяжкие по чужим постелям. Всяко может быть, но ушел хлеборез – и как в воду канул.
Одно было паршиво: никак не складывалось со сменщиком. Казалось, подбирал со всем тщанием, отследил биографию, но выпускник Владимирского педагогического института оказался истеричным типом, зыркающим исподлобья, а после принятия внутрь разбавленного на треть спирта Royal вид у него становился маньячным. Кончилось тем, что его увезли, полуживого, из какой-то забегаловки на окраине города. По выходу из госпиталя он прямиком отправился на год в дисбат. От более сурового наказания его спасло то, что облеванную папку с документами он из рук все же не выпустил.
На смену будущему преподавателю физики пришел дипломированный учитель истории. Эту тщедушную личность перевели из какой-то дальней части, где его зачморили до такой степени, что он хлебнул электролита. Сделай он глоток побольше, наверняка комиссовали бы и отправили домой в Смоленск, а так подлечили – и давай, иди дослуживай. Паренек он был исполнительный и безобидный, но в него вбили страх, и потому на окружающий мир он взирал снизу вверх. В доброе расположение ефрейтора Дубинина – да-да, повысили приказным порядком – он не верил и в ожидании подлянки вел себя серой мышкой: скользнул в уголок, прикрылся бумажками и притих. А потом и другое выяснилось. Бывая в городе, новенький заходил в чипки, как называли в этих местах простенькие кафе, чайные и рюмочные, и слезно просил сердобольных продавщиц дать что-нибудь поесть. Пришлось старшему секретчику, которого подобная стыдоба могла ударить рикошетом – не уследил за подчиненным, а то и похуже, гнобишь, обираешь, – прояснить «бедному солдатику» кое-какие правила поведения. Тот слушал, втянув голову в плечи, готовый к удару, которого не последовало, обещания врезать было довольно. Какое уж дружеское общение при таком раскладе!
Так и тянулись дни, серые, неотличимые, и единственно, что наполняло их красками, это рассказы, которые Олег сочинял, не помышляя о том, чтобы разослать их по редакциям. Цену своим писаниям он представлял и не хотел краснеть даже заочно – достаточно воображения, чтобы представить глумливые гримасы редакторов или кто там отшивает будущих гениев?
Сюжеты между тем множились: они толкались, как шары в барабане «Спортлото», взывая и требуя поскорее быть перенесенными на бумагу, а уж что из этого выйдет, с этим потом. Вот и рассказ «Четыре нуля» был зачат тогда, родился позже.
«Мама была «жаворонком». Будь она «совой», ложись не в десять, а после полуночи, он лишился бы не только завтраков, но и принужден был бы объясняться.
Мать интересовало все, что с ним происходит. Но как же бесили его эти бесконечные расспросы. Иногда он не мог удержаться от резкости. Потом корил себя.
Особенно тягостны были вопросы, которые приносили с собой чувство беспомощности: как ответить? И это при том, что ответы были. Только, облекаемые в слова, они становились слишком длинными и уже потому невнятными.
Его раздражало собственное неумение кратко сформулировать свое суждение, которое возникало расплывчатой мыслью, потом обрастало доказательствами правоты, проявлялось в поступках, перерастало в привычку, обещая со временем стать чертой характера.
Если бы мама была «совой», если бы увидела, она обязательно бы спросила, зачем он занимается такими странностями.
У него было заведено: без четверти двенадцать он стелил кровать, потом туалет, ванная. Без пяти он был в постели.
У изголовья ночник. На полке электронные часы. На них цифры из мерцающих зеленым палочек с подрубленными углами. Еще несколько минут – и точка безвременья, полночь.
Он лежал и ждал.
Четыре нуля.
Он брал с тумбочки книгу. Кафка, Астафьев, Адамович, Василь Быков…
Это раньше он читал на ночь Ильфа и Петрова и непритязательную фантастику. И спал тихо, просыпался с улыбкой. А не как сейчас, словно вагоны разгружал.
Конечно, это замечательные книги. Только нравиться они не могут. Приложимо ли вообще к ним слово «нравиться»? Ну как могут нравиться «Каратели» Адамовича? Ужасом веет от их страниц.
«Зачем ты это читаешь, сын?» – спросила бы мать.
Этот вопрос он и сам задавал себе. Мазохизм? Если бы… Это даже лечится. Но все сложнее. Настолько, что не поддается ни анализу, ни дальнейшему синтезу.
Разумеется, можно придумать что-нибудь возвышенное. Это как епитимья: после проведенного в праздности дня – ну какие у него заботы? – окунуться в юдоль горя, страданий и отчаяния. И очиститься в раскаянии.
В этой версии много искусительного, если бы не истинная причина – страх. У него много личин, и одна из них – страх перед завтрашним днем. Что будет утром? На работе? Вечером? Пусть у него всего лишь проблемки, но и они ранят, потому что это его сложности, его беды. Так не лучше ли быть к ним готовым, чем встретить в настроении радостном, приподнятом? Тогда падение будет особенно болезненным, а так можно терпеть.
Четыре нуля.
Он протянул руку. Что на сегодня? Чехов. «Дядя Ваня».
Книги не было. Забыл приготовить! Он встал… и словно вывалился из времени.
В себя его привел сквозняк, вольно гуляющий по паркету. Он переступил на закоченевших ногах, шагнул к кровати и юркнул под одеяло.
На часах девятка уступила место нулю, а один из нулей – единице. Десять минут нового дня. Он повернулся на бок и подложил под щеку ладонь для тепла и опоры».
И куда это девать? Спалить? Так вроде бы и неплохо. Хотя косяки прежние: гляньте, граждане, какой у нас тонкий душевный строй.
Олег потянулся, разминая спину, потом разорвал листок надвое, половинки – на четвертушки, те – на осьмушки и посыпал клочками темнеющие угли. Бумага вспыхнула и свернулась каракулевыми завитками, отдав лишь толику тепла. Ангелы ее не заметили.
* * *
Шуруп приподнялся. Уши – торчком. Взгляд жалостливый.
– Ну давай поиграем, – сдался Олег.
Пес сорвался с места и кинулся к двери. Ткнулся в нее носом, засучил лапами.
– Ты чего?
Просьба выпустить во двор обычно выглядела менее драматично. Тем более метель, погода, когда хороший хозяин…
– Да что с тобой?
Олег подошел к двери. Щелкнул выключателем, зажигая фонари около дома.
– Хочешь – на здоровье, только потом не скули.
Отпер и открыл дверь.
Двор застелило накрахмаленной скатертью. Фонари боролись с темнотой и метелью – и проигрывали – это была неравная битва.
Пес метнулся наружу. Резко затормозил на краю веранды, расставив лапы, и зашелся лаем.
Олег напрягся: неужели волки?
Шуруп продолжал исступленно лаять. Оглянулся, взывая к хозяину.
Олег сунул ноги в валенки, накинул куртку, вернулся к камину и взял топор. Лишь после этого вышел на веранду и встал рядом с псом.
Посмотрел налево – туда, где во мраке утонул скит. Потом поднял голову. Над фонарями, мешаясь со снежной крупой, летели искры.
– Ах, ты ж!
Правее, туда надо было смотреть. Там границу косогора очертила дрожащая рыжая полоса.
Олег слетел со ступеней и побежал мимо сторожки, мимо беседки, мимо кустов смородины, превратившихся в сугробы. Упал, покатился, приподнялся, смахнул с лица снег и увидел, как вспыхивает крыша стапеля.
Он соорудил ее летом, рассчитывая вести сборку корпуса и осенью, а если получится, то и зимой. Вкопал столбы, крайние для надежности укрепил растяжками с талрепами. Уложил лаги, а потом три часа возился с огромным полотнищем, прежде чем ему удалось натянуть на каркас упорно сопротивлявшийся пошитый в Москве купол. Ниже ската крыши купол спускался лишь на полметра. Стен как таковых не было, они бы только мешали, но в ноябре, в косые дожди, он несколько раз прошелся вокруг стапеля с рулоном прозрачной пленки, превращая сооружение в некое подобие теплицы. Потом еще и простучал пленку степлером. Сейчас от нее уже ничего не осталось – расплавилась, стекла маслянистыми ручейками. И купола нет – метель разбросала пытающие лохмотья.
Шуруп, последовав за хозяином, уже не лаял – постанывал от страха и жался к ногам.
А корабль горел. Янтарные языки облизывали отпрянувшее в испуге небо. Огненные ленты обвивали бимсы и стрингеры. Желтые с прозеленью ручьи, вопреки закону тяготения, текли по шпангоутам вверх. Порывы ветра поддавали и поддавали жару, как меха в кузнечном горне.
Тушить было бесполезно, такое не потушишь. Олег понял это, а следом понял и то, что так и сжимает в руке топор.
Пальцы разжались, и топор зарылся в снег. Олег невольно опустил глаза и только поэтому увидел пятилитровую канистру из-под воды. Откуда она здесь? Он поднял пластиковую баклагу. Без крышки, пустая. Понюхал… Солярка, ее запах ни с чем не спутаешь.
Он выругался и швырнул канистру туда, где, зеркалом отражая пламя пожара, стоял эллинг. Он оставался невредимым, ветер дул в другую сторону.
Ждать в бездействии, когда корабль со стапелем сгорят дотла, было так же глупо, как пытаться вызвать пожарную команду: пока еще доедут из райцентра – если проедут.
– Сидеть! – прикрикнул Олег на Шурупа, который уж точно был ему не помощник, и шагнул навстречу пожарищу, как в пекло.
Отворачивая от огня лицо, ухватил две доски, приготовленные для диагональной обшивки днища, и поволок их к эллингу. Сделал еще две ходки. В четвертую оттащил ящик со «скобянкой». В пятую – связку струбцин. А вот с шестой задержался, сбивая угли с валенка, затер тлеющий войлок снегом. Была и седьмая ходка, и восьмая… Он спасал все, что можно спасти: подготовленные к монтажу детали судового набора, какой-никакой инструмент, который держал на стапеле, не уносить же всякий раз в эллинг, если наутро понадобится.
А корабль горел. Но не как прежде. Ветер внезапно стих, и пламя уже не казалось таким ненасытным. И снег перестал быть крупитчатым, повалил большими мягкими хлопьями, засыпая человеческие следы, ведущие к стапелю со стороны озера. Чужие следы.
Олег помчался к дому. Поднял складчатую дверь гаража, выкатил снегоуборщик. Дотащив его до стапеля, пристроил рядом, опустил рычажок заслонки, открыл топливный кран и дернул заводной шнур.
Схватилось с третьей попытки. Движок взревел, набирая мощь. Олег переключил рычаг, меняя холостой ход на рабочий. Шнеки крутанулись, загребая снег. Из раструба выпускной трубы вылетело пышное облако, которое через несколько секунд, обретя плотность, превратилось в упругую струю. Толкая машину, Олег двинулся вдоль стапеля, забрасывая останки корабля снегом.
Бог весть, сколько понадобилось минут… часов… чтобы сбить пламя. Олег словно вывалился из времени. Так написано в рассказе, который он прочитал сегодня, и придуманная когда-то фраза оказалась пророческой.
Стапель теперь окружала широкая полоса, выбранная шнеками почти до земли. Он нажал кнопку «STOP». Движок послушно заглох.
Олег выпрямился. Запаха гари он не чувствовал – придышался. Тыльной стороной ладони протер глаза, не пытаясь разобраться, что за влага завесила их – пот или растаявший снег. Но не слезы! Мышцы рук, истомленные вибрацией, наливались свинцовой тяжестью.
Корабль теперь был не кораблем, даже не намеком на него, он напоминал фрагмент скелета, школьного пособия по анатомии, только не обвисшего на железных подпорках, а упавшего, и так неудачно, что отлетели в стороны руки-ноги, откатился в угол череп, осталась лишь грудная клетка.