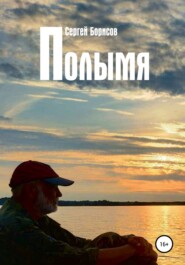скачать книгу бесплатно
Обеспечив себя таким джентльменским набором и приняв «на грудь» первую рюмочку, он вытягивал к огню ноги в следках ручной вязки. Их еще в первую его зиму на озере подарила Мария Филипповна. В Полымени и Покровском все пользовали зимой особую обувку, потому что понизу сквозило даже при теплой печке, тут не до тапочек. Правда, у большинства сельчан в качестве следок были старые обрезанные валенки, но в некоторых домах женщины, да и мужчины, щеголяли в вязаных, называя их почему-то «зефирками». Почему – это Олегу выяснить не удалось: никто не смог объяснить, откуда есть-пошло название. Мария Филипповна Колычева вязала красиво, разноцветно, и следки-«зефирки» у нее выходили замечательные. От подарка Олег отнекиваться не стал, ведь от чистого сердца и в благодарность за его отношение к Славке. Однако и пользы для себя от «зефирок» не видел. Пол в усадьбе был с подогревом, в экономии энергии нужды не было, тогда зачем? Но неделю спустя, в буран, у Жабьего ручья повалило старую осину, ровнехонько на линию электропередач, срывая провода с изоляторов. В усадьбе помертвело. Прощально булькнув, утих холодильник. Погасли таймеры и экраны. И как на грех, закапризничал дизель-генератор, призванный страховать при форс-мажорах. Но тут Олег был сам виноват – следовало еще осенью проверить, а он профилонил, расслабленный тем, что подобных эксцессов прежде не было. А незадача возьми и случись! При свете фонаря понять, что к чему с генератором, ему не удалось. Мастер из райцентра, до которого он дозвонился, сказал, что добраться сейчас до усадьбы – это утопия: дороги замело, и когда еще расчистят. В общем, не оставалось иного, как обматерить произведение итальянских инженеров и ретироваться в дом поближе к камину, к живому огню. По той же причине – замело и вьюга все не стихала – бригада электриков восстановила линию только через два дня. Дом успело выстудить. Олег спал на матрасе, который подтащил к камину. Шуруп по мере сил старался исполнять роль грелки, забиваясь под бок хозяину. Вот тогда Олег и оценил «зефирки» должным образом – высоко. Тепло, удобно и как-то очень уютно – настолько, что хоть не снимай. Он и не снимал до самой весны, в них ходил, а подогрев пола убрал до минимума – чего зря ноги жарить.
Языки пламени в камине обретали силу, а с ней сине-стальной оттенок. Опрокинув еще рюмку, покурив и загасив сигарету, Олег открывал папку, лежавшую на коленях, брал сбитые степлером листки формата А4 и начинал читать.
-–
Эту папку и еще несколько он нашел на антресолях в квартире отца. Папки лежали в самой глубине. Стремянки в квартире, разумеется, не было, так что пришлось заняться эквилибром – изогнуться буквой «зю», рискуя свалиться с табуретки, поставленной на стул. Он удержался, дотянулся, вытащил под 60-ваттную лампочку, упрятанную в припорошенный пылью абажур.
В папках были вырезки из газет и журналов. Сотни. Пожелтевшие и сохранившие белизну, они повествовали о дальних странах, об их прошлом и настоящем, о народах, их населяющих, о традициях, обычаях. Охвачены были все континенты, но по количеству заметок и статей можно было судить о приоритетах – более всего отца занимали острова Южного океана, Австралия, Новая Зеландия…
Особенно Новая Зеландия. Ей была посвящена отдельная папка, пускай и потоньше остальных. Сверху в ней лежала журнальная страница, в уголке которой была обозначена вполне традиционная рубрика – «Пестрая смесь». В заметке рассказывалось о том, как по верованиям маори, коренного народа Новой Зеландии, зародилась жизнь под солнцем. Произошло это после соития Земли-Матери, именуемой Папатуанаку, и Неба-Отца, нареченного Рангинуи. У них родился сын Тане, которому, томимому неясными чувствами, с возрастом стало как-то совсем тоскливо. И тогда он создал женщину, слепив ее из земли и через ноздри вдохнув в нее жизнь. Эта женщина и была первым человеком. Тане назвал ее Хине-Аху-Оне. У пары стали рождаться дети – маори, то есть люди «обычные», «естественные», «нормальные», кому что нравится, это уже тонкости перевода. В память о том чудесном сотворении, о любви Тане и Хине, маори делают хонги – прижимаются друг к другу лбами и трутся носами, так они соприкасаются душами, делятся божественным дыханием жизни.
Олег вспомнил, как очень давно, он еще в школе учился, отец вдруг притянул его к себе, и он испугался, что его сейчас поцелуют, но вместо этого отец потерся носом о его нос. Тут же отстранился и буркнул, ускользая от недоуменного взгляда: «Потом объясню». И не объяснил, конечно, потому что вообще чурался доверительных разговоров с сыновьями – что со старшим, что с младшим. «Бирюк, – называла мужа их мать. – Сухарь». И была права, с этим все соглашались.
И не права… Оказывается, его отец – инженер-теплотехник с приличной зарплатой, которую он до копейки приносил домой, не ездивший с семьей в санатории, предпочитая им дачу или пустую квартиру – это важно, что пустую! – был мечтателем. Он грезил далекими островами, где люди веселы и беспечны, где мужчины рассекают океанские волны на утлых каноэ, а обманчиво доступные девушки в юбчонках из пальмовых листьев танцуют вокруг пришельцев из другого, незнакомого мира и поют им песни. Эти папки были зримым свидетельством того, что у отца была вторая жизнь – тайная, в которую не было доступа никому.
Еще одним доказательством служила личная библиотека, собиравшаяся многие десятилетия. Но доказательством не столь явным, поскольку в годы тотального дефицита книги хватали без разбору, лишь бы урвать. К тому же литературы по географии, этнографии, о путешествиях водных и земных выпускалось до прискорбия мало, поэтому в отцовской либерее главенствовали классика и присоседившиеся к ней тома современных беллетристов.
Судя по датам выхода газет и журналов, указанных на вырезках и вырванных страницах, пополнять папки отец перестал задолго до тех времен, когда Интернет вынес смертный приговор бумажным изданиям, согласившись лишь на отсрочку его исполнения. Наверное, отец перегорел или разуверился в том, что перемены возможны, а может, просто устал после главной перемены в своей жизни. А может быть, уйдя из семьи, обнаружил, что все так страстно желаемое находится не за горами и лесами, морями и океанами, не на островах, где потомки маори и сейчас делают хонги, а в «однушке» на бывшей окраине Москвы, в Медведкове.
Каждому нужен свой малый уголок, утверждал Сомерсет Моэм. Роман с таким названием тоже имелся в библиотеке отца – стоял между сочинением того же автора «Бремя страстей человеческих» и «Островом сокровищ» Стивенсона. Роман этот Олег в свое время осилил, совсем не впечатлившись, но пассаж о малом уголке – для человека – и сокровенном уголке – в его душе запомнился. А еще оригинальничание корифея британской прозы, который начал книгу так: «Глава 1. Все это случилось много-много лет назад. Глава 2. …»
Так и в жизни. Олегу казалось, что отец умер много-много лет назад. Ему позвонила мать и сказала об этом голосом бесцветным, выгоревшим.
* * *
«Мечты». Он не помнил, почему дал рассказу такое название, пришитое к тексту на гнилую нитку. Вероятно, вкладывал особый смысл, тогда очевидный, но потом утерянный, и уже навсегда.
«В ночи затерялись звуки. Город будто вымер. Но не умер. Мигают желтым светофоры.
Я курю на балконе и сплевываю вниз. Капелька слюны теряется в темноте, потом появляется и, сверкнув отражением уличного фонаря, разбивается об асфальт или крышу припаркованного у дома автомобиля.
Разбавленная оранжевым тьма поднимается от земли к прорвавшимся сквозь городское зарево звездам. Постепенно она теряет чужеродный цвет, становясь черной и прозрачной,
Туда же воспаряют души – если ты жив, там остаются – если ты умер. Но кого волнует, жив ты или умер? Люди спят, накрывшись простынями или теплыми одеялами, и сны их безмятежны. Другие сновидения им не нужны, другие люди неинтересны. Даже те, кто более других достоин жалости, сочувствия, любви.
Как же я вас…
Так рождается ярость, не знающая снисхождения.
Хотя… Хотя… Хотя… Я сам – не из тех, я сам – из вас.
Заложив окурок между большим и указательным пальцем, я щелкаю, и «бычок» летит вниз.
Он летит бесконечно долго, ударяется о крышу автомобиля… проваливается в щель воздухозаборника… падает на тряпку, которой владелец машины протирал двигатель и которую по рассеянности оставил под капотом…
Столб огня поднимается к небесам, смахивая с них звезды.
Взрыв разрывает тишину, сны и мечты.
Зажигаются окна. Женщина в бигудях свешивается через подоконник и кричит, обращаясь неизвестно к кому:
– Что случилось? Ради Бога, что случилось?
Но я не Господь, я не знаю ответа».
Такой вот рассказец. Хотя никакой, конечно, это не рассказ, а пустышка, фитюлька, потуги строчкоплета, уверовавшего в свою исключительность, которую не дано разглядеть окружению из пустых, недалеких особей рода человеческого. А хотелось бы, чтобы разглядели, так ведь?
Листок на коленях ждал решения своей участи. Олег смял его и бросил в камин. Взял следующий. Надо же, один к одному. Рассказ назывался «Огонь».
«Дверь рванули. Примерзшая, заиндевевшая, она пружинила и скрипела. Выполняя свой долг, она не желала пускать в прогретое помещение январскую стужу.
Дежурный по отделению сонными глазами следил за поединком двери и человека. Он уже было поднялся, намереваясь прийти на помощь, но тут дернули отчаянно, и дверь, вскрикнув пружиной, распахнулась.
Сначала появились двое. Кто – девушки? парни? – разгадать было невозможно, так они были облеплены снегом.
За ними вошел милиционер. Переступив порог, он закрыл дверь, и та облегченно всхлипнула, снова оказавшись на посту.
– Это кто? – спросил дежурный, ткнув пальцем в бесполые создания.
– Сейчас, – прохрипел милиционер. Негнущимися пальцами он рвал смерзшийся в комок узел под подбородком. Пальцы соскальзывали, не справлялись.
Отодвинувшиеся в угол фигуры слабо шевелились. Одна из них, выпростав руки из карманов, бочком-бочком двинулась к батарее отопления. Дежурный не без злорадства наблюдал, как ладони потянулись к чугунному литью и были отброшены холодом. Он покосился на стоящий рядом с его столом электронагреватель и подмигнул малиновым спиралям. Но тут же, посерьезнев, перевел взгляд на милиционера, чья затянутая шапкой голова казалась крохотной.
– Что там?
Подчиненный, продолжая терзать тесемки, промычал что-то невразумительное и все же сорвал ушанку. Его лицо было болезненно бледным, подмороженным. По щекам ползли ручейки растаявшего снега, а со стороны могло показаться, что это слезы.
– Я их на площади… Сидят вокруг Вечного Огня, руки греют.
– Так холодно же, – раздался из угла жалобный голос. – Что нам, замерзать?
– Это не тот огонь! – отрезал дежурный.
Он придвинул к себе бланк протокола и стал заполнять его, бормоча:
– Нашли огонь… Вся страна в огне! Вы еще пожар устройте!
Он писал, а за окном плакала вьюга…»
Многоточие! Ах, как оно оправдано, как уместно здесь, предлагая додумать, домыслить. Несомненно, господа, это непростой рассказ. Он из тех произведений, что созданы по завету Хемингуэя, утверждавшего, что хорошая книга подобна айсбергу, семь восьмых которого укрыты водой. Автор вновь не хочет разжевывать, давать предысторию, он уважает читателя. А если тот не проникнет в суть, не оценит замысел, что ж, придется с прискорбием повторить: есть чистые разумом и нечистые помыслами, есть близкие, а есть недалекие, которые возопят в жажде ответа, лишь когда прогремит и полыхнет перед самыми глазами. И даже если будет им сказано, они ничего не услышат, не просветлеют умом и сердцем, а закроют окна и лягут в постель, спрячутся под одеялом. И душа их будет спокойна – выхолощенная, сморщенная до кулька, в котором если и сохранились какие-то крохи, то столь жалкие, что их лучше не являть белому свету.
Где-то так. Высоколобо, надменно… С многоточием. Ну и хватит, пошутили – и будет. В огонь!
Комкая бумагу, а потом, глядя, как она обращается в ничто, ибо ничтожны словеса, начертанные на ней, Олег испытывал чувство, в котором было поровну удовлетворения – вот какой я объективный, и горечи – той, которая возникает, когда печалятся о безвозвратно ушедшем времени. В общем, коктейль: смешали не взбалтывая.
Давно надо было это сделать – проредить. А он хранил, будто невесть какую ценность. Также свои вырезки хранил отец – не выбросил, а стянул папки потуже завязками и убрал на антресоли. Как немых свидетелей прошлого, избавиться от которых – все равно что утратить часть себя.
-–
Первым порывом, когда он обнаружил отцовские захоронки, было свалить их в большие черные мешки – так он поступил с носильными вещами. Эти мешки Олег прихватил с кладбища, уже тогда зная, что понадобятся. Можно было бы и купить, невелика цена и совсем не редкость, но тут они раздавались бесплатно, а коли так, отчего не взять? Прибиравшиеся на могилах наследники и потомки доверху набивали мешки палой листвой – кладбище было старым, укрытым деревьями, – а он запихивал в них носки и трусы, майки, рубашки, шляпы, ботинки, костюмы, куртки, жилеты, драповое пальто.
На это пальто долго и оценивающе смотрела мать, когда заехала на квартиру бывшего мужа – на разборки, не в нынешнем, когда выясняют отношения, а в прежнем понимании слова. Вроде бы даже потянулась, но рука опустилась, повисла плетью. Мать не взяла ничего, кроме нескольких фотографий. Уже в дверях сказала: «Владей», – и застучала каблуками по лестнице. Отец жил на пятом этаже «хрущевки», так что ходу отсюда было только вниз.
Пальто Олег затолкал в отдельный мешок. Всего их набралось шесть – с годами люди обрастают вещами, потому что им все труднее от них избавляться. Олегу до этой стадии, хотелось верить, было еще далеко, и ставшие ненужными шмотки – чуть порванные или испачканные, но пригодные к носке, да просто разонравившиеся, – он выносил к мусорным контейнерам во дворе. Там, что надевается, вешал на ограду, во что обуваются, ставил подле нее. Через пару часов вещи исчезали, и он ни разу не видел, кто их уносит. Копавшихся в баках наблюдал часто, а вот чтобы кто проявлял интерес к развешанному на ограде или обуви, не доводилось ни разу. Но вещи исчезали, и не было в том никакой мистики, а значило только одно: кому-то они были нужны – по болезни крохоборчества или по крайней бедности.
Поступить так же с отцовским гардеробом было разумно, но абсолютно невозможно. Почему, Олег не смог бы объяснить, но было бы в этом что-то неправильное. И вообще, каково это – увидеть пальто отца на забулдыге, сшибающем у станции метро мелочь на опохмел? Нет уж.
Он сделал иначе – из романтических, идеалистических, да хоть бы и психопатических побуждений. Загрузил мешки в багажник «мазды» – два не поместились, их запихал в салон – и отправился за МКАД на полигон бытовых и строительных отходов, по которому днем и ночью в свете прожекторов елозили огромные желтые бульдозеры.
-–
На этом полигоне он впервые оказался на излете своей журналистской карьеры. Ведущая городская газета, откликаясь на поручение сверху, желала восславить усилия столичных властей по утилизации мусора. Облечь все в слова было поручено специальному корреспонденту Дубинину. И он поехал, и восславил со всем усердием. Но этим не ограничился. В популярном и очень «зубастом» либеральном журнале тиснул очерк о человеческом отребье, прибившемся к полигону.
Встретили его в журнале с объятиями, но материал к публикации приняли не сразу. После резановского фильма про обетованные небеса и паровоз, который доставит туда всех нищих телом, но не духом, всех обиженных, оскорбленных, обездоленных, довольно долго отношение интеллигентских масс к бомжующим было не по виду их и не по сути. Впрочем, такие были годы, когда на улице оказывались люди, того вовсе не заслуживающие – не пьяницы, не гуляки, не тронутые умом, а просто не вписавшиеся в новые экономические условия: потерявшие работу, обманутые строителями «пирамид», безоглядно поверившие посулам новых властей и получившие дефолтом под дых. Этих людей и впрямь впору было пожалеть, но сильные выкарабкивались, не требуя сочувствия, а слабые быстро превращались в то, что его недостойно. Во всяком случае, Олег пересилить себя не мог, у него жалости не было.
В стойбище бомжей – они ютились в хижинах из ДСП, под навесами из билбордов, ставших ненужными после последних выборов, в землянках – он увидел опустившихся, опухших существ, которые когда-то были мужчинами и женщинами. Задарма – ни в какую, но за поллитру любой здесь готов был поведать историю своего падения, в чем, конечно же, не было его или ее вины, но лишь стечения обстоятельств, естественно, «непреодолимой силы», как не без налета сарказма отметил Олег в своем тексте. В числе прочего в ходу была неразделенная любовь – бомжихам это представлялось веской причиной, они даже слезу пускали, говоря о бросившем их женихе или ушедшем к какой-то шалаве муже. Их нынешние партнеры, мрачнея синюшными мордами, во всем винили предавших их жен и отрекшихся детей.
Олег поговорил со многими. Не скупясь, потратился на выпивку. И что услышал, увидел, то и написал. При этом к печальным выводам не подталкивал, морализаторством не занимался, милость к падшим не призывал. Именно это охладило первоначальный пыл редактора журнала.
«Так кто же виноват в их бедственном положении?» – спросил он строго.
Олег пожал плечами.
«Кризис, спровоцированный властью! – отчеканил редактор голосом, знакомым миллионам радиослушателей: на одной из FM-радиостанций у него была именная программа, целый час по четвергам. – Это результат ее преступной бездеятельности, наплевательства на простых граждан».
Олег слышал подобные обличительные речи тысячи раз, только с противоположным адресом. На планерках в газете, рупоре городского начальства, с той же непримиримостью клеймили краснобаев, казалось бы, полностью себя дискредитировавших в 90-е, почти захлебнувшихся в вылитых на них помоях, но выживших, отдышавшихся и теперь смеющих что-то вякать. Да как их только Кремль терпит, грантоедов!
«Нужен выпад – резкий, разящий, убийственный. Сделаешь?»
Олег покачал головой.
«Тогда извини, но в таком виде этот материал в нашем журнале опубликован не будет».
«Не вопрос. Нет, так нет».
Редактор снял очки, выхватил из рукава пиджака платок и стал протирать стекла:
«Олег, мне известно, где ты работаешь. Представляю, как тебе непросто среди чинодралов и подхалимов, и тем не менее ты остаешься лояльным режиму. Соглашусь, у каждого из нас свои резоны, свой предел прочности, но нельзя прогибаться до бесконечности! И все же я не сужу и не осуждаю, и уговаривать тебя, прельщать двойным гонораром не собираюсь, я лишь спрошу еще раз: внесешь правку?»
«Нет».
«Почему?»
«Лень».
«Ну, знаешь…»
«Я знаю, что этот материал – такой, какой есть, – возьмут другие, на вашем журнале свет клином не сошелся. Возьмут, и ты это тоже знаешь».
«Да, – вынужден был согласиться редактор. – С принципами сейчас не очень, а ты «золотое перо», умеешь подать товар лицом. За то и ценим».
«Мерси за комплимент. Так я пошел?»
«Куда?! Ишь, намылился. Сиди!»
«Сижу», – Олег был сама покладистость.
«Вот и сиди. Ладно, очерк твой мы берем.
«Но чтобы без отсебятины: не вычеркивать, не дописывать».
«Обижаете, товарищ спецкор, мы в мухлеже не замечены».
«Это я на всякий случай. Любое правило когда-нибудь нарушается. Так вот чтобы не на мне споткнуться».
«Тоже мне… кочка. Ты лучше скажи, как подписывать будешь? Своим именем?»
«Я похож на самоубийцу? Или мне моя работа не дорога? Псевдонимом».
«Трусишь! – уличил и даже обрадовался собеседник. – А как же принципы?»
«Я о них даже не заикался. Это твоя прерогатива: ум, честь, совесть. А я просто ленюсь. И ничего больше и краше».
«Выкрутился? – Редактор водрузил очки на переносицу. – Хороший ты парень, Дубинин, но я бы с тобой в разведку не пошел».
«Я бы с тобой тоже».
Через неделю статья о бомжах с мусорного полигона была напечатана и даже вызвала нешуточную дискуссию среди слушателей радиопрограммы редактора-ведущего. Тот ее умело срежиссировал, очертил полярные мнения, столкнул спорщиков лбами, а в заключительном слове отважно бросил обвинение власть предержащим: доколе?
Вместе с тем по отношению к Олегу он повел себя порядочно: текст остался в исходной версии, а настоящее имя автора фигурировало только в бухгалтерской ведомости. Хотя для представителей масс-медиа не стало секретом, кто сие сотворил. И в родимой редакции тоже были в курсе, но проглотили молча: все-таки под псевдонимом – сам прикрылся, коллег впрямую не подставил и другую статью о полигоне написал, хвалебную, в ней про бродяг и нищих ни слова. А что это значит? Это значит, наш человек, конъюнктуру чувствует и фишку рубит.
Олег в эти дни был настороже: на провокационные вопросы не отвечал – отшучивался, на дружеские подначки глаза не закатывал. Он ждал, когда уляжется волна, ибо таков закон журналистики: любая сенсация выдыхается, любая новость умирает, вопрос лишь в сроках, для одной достаточно недели, для другой часов.
И еще он спрашивал себя: а зачем тебе, мил человек, это было надо – бомжи, их истории, зачем надо было об этом писать, а написанное продавать? Нет, конечно, гонорар карман не тянет, но он лишь сопутствующее явление и уж точно не причина – не настолько велик, хотя и весом.
Олег крутил и так, и эдак, и по всему выходило, что им двигало тщеславие, которое всегда идет рука об руку с гордыней, тщеславие особого рода, когда требуется не столько восхищение окружающих, сколько собственное одобрение: да, паря, не могёшь, а могешь!
Признание сего факта было малоприятным, но, прозвучав, от него уже некуда было деться. Разве что притушить, и Олег отправился на полигон. Бомжи, не ведавшие, что стали героями очерка, его узнали, водке с закуской обрадовались, тут же стали откупоривать и распаковывать. Ради этого все дела были отложены. Те, кто рылся на склонах мусорной горы, потянулись к ее подножию. Те, кто обжигал провода и кабели, – за «цветмет» здесь же, неподалеку, скупщики давали неплохие деньги, – тоже оставили свои труды. Собравшись в кружок, пустили по рукам пластиковые стаканчики. Пили торопливо и без лишних разговоров. Только мужик, толстый, багровый, с отвислыми брылями, делающими его похожим на престарелого бульдога, он здесь был за вожака, просипел сорванным голосом: «Благодарствуем». А потом, оглядев свою гоп-компанию, рявкнул: «Размочились – и баста». Бомжи тихо загудели, но перечить никто не посмел, да и бутылка с остатками водяры была в лапище их предводителя. Распрямляя ссутуленные плечи, одни вернулись к кострам, остальные полезли наверх – туда, где разворачивались, готовясь в разгрузке, «камазы»-мусоровозы.
«С чего такая щедрость?» – наконец поинтересовался вожак.
«От широты душевной. – Олег достал сигареты. – Будешь?
«Не курю. – Бомжига в два глотка добил бутылку, кхекнул и пояснил: – Берегу здоровье».
-–
Он ехал на полигон в машине, набитой раздувшимися, будто обожравшимися мешками, не зная, там ли, в чахлом перелеске, еще стойбище бомжей. Но куда они денутся?