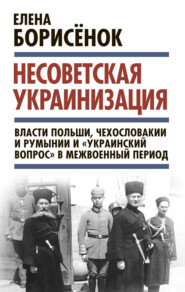 Полная версия
Полная версияНесоветская украинизация: власти Польши, Чехословакии и Румынии и «украинский вопрос» в межвоенный период
Глава 3
Национальный вопрос в политике восточноевропейских государств во второй половине 1930-х гг. и объединение украинских земель
§ 1. Украинцы в политике Польши, Чехословакии и Румынии. Образование Карпатской Украины
Политика польских, чехословацких и румынских властей в 1920-е гг. не принесла прочного мира и спокойствия на украинские земли. Деятели украинского движения не были удовлетворены действиями властей Польши, Чехословакии и Румынии. Руководство этих стран, в свою очередь, с тревогой следило за ростом самосознания национальных меньшинств и усилением радикальных настроений в украинском обществе.
Конструктивного межнационального диалога между западноукраинским обществом и польскими властями не получалось. 1930-е гг. начались с активного противостояния между радикальной частью украинского движения и польским руководством, вызванного антипольскими террористическими действиями националистов и политикой умиротворения варшавских властей. В то же время отнюдь не вся польская общественность была благожелательно настроена к волынскому варианту нормализации межнациональных отношений. Не способствовала успеху украинской политики Польши и международная ситуация. Варшаву особенно беспокоили прогерманские настроения среди руководства ОУН. Уже в конце 1932 г. ОУН прилагала усилия для установления связей с германскими спецслужбами. Так, состоялась встреча Е. Коновальца и Р. Ярого с руководителем абвера Р. Патцигом, на которой, как писал А. В. Кентий, «было достигнуто джентльменское соглашение касательно продолжения сотрудничества в случае войны с Польшей»[487]. Летом 1933 г. в окружении только что пришедшего к власти Гитлера уже велись разговоры об организации выступления украинских националистов в Восточной Галиции в случае вооруженного конфликта с Польшей, что могло существенно повлиять на польскую военную мощь[488]. В условиях очевидного кризиса Лиги наций после выхода из нее в октябре 1933 г. Германии Польша в 1934 г. заявила о своем выходе из системы международно-правовой охраны национальных меньшинств. Взятые на себя обязательства Варшава никогда не исполняла сколько-нибудь удовлетворительно, но теперь отпала надобность даже в формальном следовании принципам Версальской системы.
Между тем советофильские настроения в западноукраинском политическом лагере Польши в 1930-е гг. уже не были так распространены, как в предшествующий период. Неблагоприятное впечатление произвел процесс над так называемым Союзом освобождения Украины 1930 г., а сообщения о голоде в УССР, появившиеся в западноукраинской прессе, нанесли еще больший удар по советофильству. Наконец, с тревогой было воспринято известие о самоубийстве Скрыпника. 24 июня ЦК УНДО приняло резолюцию о положении на Советской Украине, в которой осудило «грабительскую, рассчитанную на физическое и моральное истребление украинского народа политику коммунистов на Украине»[489]. 24 июля греко-католический епископат обратился к верующим с призывом помочь голодающим украинцам в УССР[490]. На совместном заседании Украинской парламентарной репрезентации (УПР) и представителей украинских организаций и учреждений Львова был образован Общественный комитет спасения Украины, который начал проводить акции протеста против политики большевиков в УССР[491]. Польское правительство, учитывая подписанный советско-польский договор о ненападении, стремилось ограничить проведение протестных акций, а после убийства работника советского консульства А. Майлова запретило во Львовском воеводстве любые общественные собрания.
События 1933 г. сказалась и на судьбе КПЗУ. Советское руководство было недовольно тем, что распространявшиеся в Польше известия о голоде не встретили решительного отпора со стороны партии. Лидеры КПЗУ М. Заячковский и Г. Иваненко были вызваны в СССР, обвинены в измене как замаскированные агенты ОУН и арестованы по делу Украинской военной организации. Через пять лет, в 1938 г., Коминтерн одобрил решение о роспуске КПЗУ.
Поворот в украинской политике польских властей произошел во второй половине 1930-х гг. После смерти Ю. Пилсудского в 1935 г. в варшавской политической элите вокруг этой проблемы шла борьба между тремя группировками, объединившимися вокруг премьер-министра В. Славека, президента Польши И. Мосцицкого и генерального инспектора Вооруженных сил Э. Рыдз-Смиглы.
В. Славек, возглавлявший в марте – октябре 1935 г. правительство Польши, предпринял попытку нейтрализации украинского движения в Восточной Галиции. В мае – июне 1935 г. на нескольких неформальных встречах представителей УНДО с правительственными чиновниками было достигнуто соглашение между руководством УНДО (В. Мудрый, В. Целевич, О. Луцкий) и министром внутренних дел М. Зындрам-Косцялковским. Нормализация касалась только Галиции. Правительство предложило некоторые уступки для украинцев в экономической и культурной сферах, а достижение соглашения давало возможность кандидатам из УНДО быть избранными в парламент[492].
Требования украинской стороны к правительству Польши были подготовлены в июле 1935 г. и переданы польской стороне В. Мудрым. Как вспоминал член ЦК УНДО И. Кедрин, речь шла о прекращении польской колонизации украинских земель; свободном приеме украинской молодежи в высшие учебные заведения; открытии украинского университета; использовании термина «украинский» вместо «русский» и «русинский»; открытии закрытых украинских государственных гимназий; преподавании в украинских школах на украинском языке в полном объеме; предоставлении украинской молодежи возможности трудоустройства в органах госадминистрации и местного самоуправления; амнистии политзаключенных и т. д.[493]
В результате польско-украинского соглашения 1935 г. был выделен кредит некоторым украинским коммерческим организациям, больнице украинского общества «Народна ликарня» во Львове, поликлинике для матери и ребенка во Львове. 27 февраля 1936 г. было издано распоряжение министра внутренних дел Польши Ф. Славой-Складковского, уравнивавшее использование в государственных учреждениях и официальных документах терминов «ruski» и «ukraiński», поскольку они, по мысли министра, использовались для обозначения одного и того же народа. Кроме того, госадминистрация отказалась от тесного сотрудничества с галицкими москвофилами, некоторые украинские учителя были возвращены из центральных районов Польши на территорию Восточной Малой Польши, нескольких украинцев приняли на работу в госучреждения и кампании, два галицких украинца получили должности в польском МИД (одна вакансия – в польском консульстве в Харбине и одна – в Нью-Йорке)[494].
Одновременно польские власти провели судебные процессы по делу членов ОУН. 18 ноября 1935 г. в Варшаве начался процесс по делу участников покушения на Перацкого. Перед судом предстали 12 членов ОУН, в том числе С. Бандера. 13 января 1936 г. суд вынес обвинительный приговор, С. Бандера, Н. Лебедь и Я. Карпинец были приговорены к смертной казни, но по правительственной амнистии она была заменена на пожизненное заключение, другие были приговорены к длительным срокам заключения.
Еще один процесс над 23 деятелями ОУН проходил с 25 мая по 26 июня 1936 г. во Львове. Речь шла о нескольких террористических актах, совершенных членами ОУН (убийство заведующего канцелярией Генконсульства СССР во Львове А. Майлова в 1933 г., директора Львовской гимназии И. Бабия в 1934 г., студента Я. Бачинского и др.). С. Бандера и Р. Мигаль были приговорены к пожизненному заключению, остальные – к длительным срокам[495].
Часть правящего лагеря во главе с генеральным инспектором Вооруженных сил Э. Рыдз-Смиглы и военным министром Т. Каспжицким инициировали так называемую политику «усиления польскости» в северо-восточных регионах страны. В июне 1935 г. польская полиция провела в Волынском воеводстве пацификацию. В ночь с 24 на 25 июня были организованы массовые полицейские облавы, которыми было охвачено 78 сел трех уездов, в ходе которых арестовали 41 человека.
В сентябре 1936 г. были арестованы деятели Украинского национального казацкого движения (УНАКОР) – украинской эмигрантской организации, лидером которой был И. Полтавец-Остряница. На Волыни действовало ее подразделение под руководством И. Волошина-Берчака. 27–30 апреля 1937 г. в Луцке состоялся судебный процесс над 44 унакоровцами. Двое подсудимых были оправданы, остальные были приговорены к тюремному заключению. Впрочем, уже осенью 1936 г. в селе Заполье Любомльского уезда была опять организована ячейка УНАКОР. 15 июля 1939 г. 13 членов этой организации были арестованы, восьмеро из них очутились в тюрьме[496].
Были произведены аресты и среди членов ОУН на Волыни. Акция по ликвидации началась в ноябре 1938 г. и длилась практически до сентября 1939 г. Были арестованы 754 человека, из них заключены в тюрьму 624 члена ОУН, под надзор полиции попали 43 человека и освобождены 87 человек. Были проведены судебные процессы, на 8 июня 1939 г. 207 членов ОУН были приговорены к тюремному заключению на срок от 1 до 13 лет. В Березе-Картузской к началу сентября 1939 г. из 7 тыс. новых заключенных 4,5 тыс. были украинцами[497].
В январе 1936 г. премьер-министром Польши Зындрам-Косцялковским на заседании Национального комитета Президиума Совета министров были представлены тезисы национальной политики. Предполагалось создание полонофильского движения среди украинцев Волыни и Галиции, а в отношении украинцев Холмщины, Полесья, Подляшья и Лемковщины планировалось проводить политику национальной ассимиляции[498].
В июле 1936 г. командующий округом Корпуса II в Люблине, которому в военном отношении подчинялось Волынское воеводство, генерал М. Сморавиньский направил министру юстиции В. Грабовскому заключение об общественно-политической ситуации в Волынском воеводстве. Деятельность воеводы Юзевского была подвергнута резкой критике. По мнению Сморавиньского, следствием «волынского эксперимента» стало уменьшение польского присутствия на территории воеводства и превращение Волыни в оплот коммунизма и воинствующего украинского национализма[499].
Усилению польского присутствия на Волыни призвана была служить ревиндикационная акция, развернувшаяся во второй половине 1937 г. и осуществлявшаяся и путем административного давления, и методами откровенного запугивания. Она приняла массовый характер, нередко осуществлялся перевод в римско-католическую веру целых сел[500]. Так, в Кременецком повете в декабре-январе «перешли в католичество около 900 человек», в феврале были два случая перехода в католичество – 56 и 62 человека, в марте – три случая (45, 40 и 99 человек), в апреле – 72 человека, в мае – 15 и 34 человека, в июне – 49 и 33 человека[501].
«Волынский эксперимент» был прекращен в апреле 1938 года. Юзевский был отозван из Волыни, получив новое назначение в Лодзь. Уже после своей отставки бывший волынский воевода написал записку «Об основных направлениях польской государственной политики на Волыни», в которой высказал обеспокоенность вмешательством военных в межнациональные и межконфессиональные отношения на Волыни. По его мнению, полная полонизация школ, увольнения украинской интеллигенции со своих должностей будут иметь неблагоприятные последствия: «Позиция ненависти ко всему украинскому вызовет со стороны украинцев позицию ненависти ко всему польскому»[502].
Новым волынским воеводой стал А. Гауке-Новак. Новая волынская администрация объявила об ускорении процесса полонизации воеводства. В феврале 1939 г. по инициативе нового воеводы была разработана и утверждена министерством внутренних дел новая «программа государственной политики на Волыни». Реализация программы должна была способствовать, во-первых, самой «тесной органической соборности Волыни со всей Речью Посполитой»; во-вторых, «обязательному расширению и углублению принципов сосуществования польского и непольского населения, ввиду основополагающего утверждения о том, что именно государственная и национальная ассимиляция непольского населения является главной целью этого сосуществования»[503]. Речь шла о прекращении украинизации православной церкви, ликвидации всех украинских организаций на территории воеводства, закрытии украинских школ, в том числе частных.
В конце 1930-х гг. курс польского руководства предполагал активную полонизацию национальных меньшинств с применением репрессивных методов и административного нажима, что привело к росту антипольских настроений среди украинцев. Весьма показательно, что в 1938 г. был закрыт «Польско-украинский бюллетень». Немалую роль сыграло нарастание напряженности в Европе, кризис вокруг Чехословацкой Республики, появление автономной Подкарпатской Руси, в последующем провозглашенной Карпатской Украиной.
Все эти события не могли не отразиться на настроениях украинских политических сил в Польше. 3 декабря 1938 г. руководитель УНДО В. Мудрый официально заявил в сейме о неуспешности польско-украинского союза, о том, что польская сторона не оправдала надежд украинцев. 9 декабря украинская фракция в сейме внесла на обсуждение в парламент законопроект об украинской национальной автономии на украинских этнических землях Польши. Согласно проекту, юрисдикции правительства и администрации Галицко-Волынской земли подлежали все вопросы, за исключением внешней политики, армии и финансов на общегосударственном уровне. Решения Президента Польши, касающиеся Галицко-Волынской автономии, приобретали бы юридическую силу только после утверждения галицко-волынского Совета министров и галицко-волынского министерства, к компетенции которого относилось бы конкретное решение. Проект предусматривал также создание независимой от центральной власти судебной системы, системы образования и даже территориальных воинских частей из выходцев Галиции и Волыни. Сотрудники госадминистрации и органов власти на территории Галицко-Волынской земли также должны были выбираться из местных уроженцев. Обязательным условием для госслужащих и учителей было владение как польским, так и украинским языками[504].
В январе 1939 г. Совет министров Польши обсуждал программу действий по украинскому вопросу, а в марте была подготовлена правительственная программа усиления польского элемента в Восточной Малой Польше, предусматривавшая тесное культурное и экономическое объединение Восточной Галиции с Польской Республикой, создание «сильного сознательного польского общества». Программа предусматривала изменение национальной структуры юго-восточных земель путем плановой польской сельскохозяйственной колонизации, увеличение польского населения городов, индустриализации, зарубежной эмиграции и внутренней миграции населения, польской национально-просветительской работы среди «рутенизированного» местного населения, которое имеет польское происхождение[505].
Внимание к украинскому вопросу польских властей было не случайным: события в соседней Чехословакии – предоставление автономии Подкарпатской Руси, которая автономным правительством стала именоваться Карпатской Украиной, – привели к оживлению деятельности украинского национального движения. Как докладывал заместитель начальника Офицерского поста контрразведки К. Кренц 21 января 1939 г., «среди украинского населения ходят версии, что в ближайшее время с помощью Гитлера на территории восточной части Малой Польши будет создано Украинское государство»[506].
В Чехословакии отношение к украинскому движению также изменилось. В середине 1930-х гг. чехословацкие власти внимательно и настороженно отнеслись к усилению украинского националистического движения в соседней Восточной Галиции. Лидер национальных социалистов В. Клофач подчеркивал потенциальную опасность сепаратизма в украинском движении. «Но достаточно взглянуть на широко распространяемые открытки, где карта Великой Украины поглотила не только Подкарпатскую Русь, но и Восточную Словакию, чтобы понять, откуда исходит политическая опасность для нашего государства»[507], – писал он в середине 1930-х годов. Чехословацкие власти обращали большое внимание на украинское движение в соседних странах. В полицейских рапортах говорилось, что ОУН намеревается силой оторвать Подкарпатскую Русь от Чехословакии и присоединить ее к единому украинскому государству, а сторонники гетмана П. Скоропадского собираются вернуть Подкарпатскую Русь Венгрии после возрождения украинского государства[508].
Международная обстановка не благоприятствовала Чехословакии, особенно напряженными были отношения с Польшей, Венгрией и Германией. При этом борьба за автономию Подкарпатской Руси поддерживалась извне: Автономный земледельческий союз во главе с А. Бродием – Венгрией, Русская национально-автономная партия С. Фенцика – Польшей.
Как считает П. Р. Магочи, в политике Праги произошел поворот к русинизму[509], что было обусловлено консолидационными усилиями правительства в условиях политической напряженности в Европе. Усилия правительства стали направляться на поддержку местного русинского национального самосознания: в 1935–1936 гг. в Праге был основан Народнохозяйственный союз Подкарпатской Руси (Národohospodářsky Svaz pro Podkarpatskou Rus), Подкарпаторусская Матица (Matice Podkarpatoruská), Клуб друзей Подкарпатской Руси (Klub přátel Podkarpatské Rusi) в Братиславе[510]. С 1934 г. в Подкарпатской Руси на местном наречии велись радиопередачи[511].
В 1935 г. третьим губернатором Подкарпатской Руси был назначен К. Грабарь, член правящей Аграрной партии, представитель местной русинской ориентации, не участвовавший ни в русофильском, ни в украинском движении[512]. Премьер-министр ЧСР М. Годжа, пытаясь снизить накал страстей, высказал намерение внимательно отнестись к требованиям автономии Подкарпатской Руси. Воодушевленные сообщениями из Праги, украинофильская и русофильская фракции Центральной русской народной рады на своем совместном заседании 12 марта 1936 г. приняли специальный меморандум об автономии и направили его чехословацкому правительству. Решения Праги не оправдали надежд русинских лидеров: в июне 1937 г. был принят закон, несколько расширявший полномочия губернатора, однако речь об автономии не шла[513].
Ситуация обострилась осенью 1938 года. В результате Мюнхенского соглашения в сентябре 1938 г. от ЧСР были отторгнуты Судетская область (которая отошла к Германии) и Тешинская область (к Польше). В итоге Чехословакия потеряла одну треть своей территории с населением 5 млн человек и 40 % своего промышленного потенциала. Преданная западными союзниками, страна очутилась в состоянии глубокого политического кризиса.
Оказавшееся в тяжелом положении чехословацкое руководство вынуждено были пойти на установление автономии Подкарпатской Руси. 21 сентября 1938 г. представители политических партий украинофильской и русофильской ориентаций подписали Декларацию о создании автономной администрации в Подкарпатской Руси. 8 октября в Ужгороде состоялось совещание с участием депутатов парламента и сената от Подкарпатской Руси, на котором было достигнуто соглашение о персональном составе автономного правительства и создана Национальная рада Подкарпатской Руси, в которой Украинскую народную раду представляли А. Волошин, Ю. Бращайко, Д. Нимчук. В Национальную раду вошли представители практических всех основных политических сил края. В выпущенном меморандуме Национальная рада провозгласила себя единственным законным представителем всех русинских областей Карпат и «всего… населения, для которого обеспечивается самоопределение и самоуправление». Было решено добиваться для Подкарпатской Руси тех же прав, которые получила и получит Словакия. Кроме того, было решено требовать немедленной замены значительной части чешских правительственных чиновников в крае местными кадрами и принятия закона о Подкарпатской Руси[514].
11 октября 1938 г. было провозглашено автономное коалиционное правительство Подкарпатской Руси в составе преимущественно представителей русофильских политических партий во главе с А. Бродием. 15 октября было издано распоряжение о языке Подкарпатской Руси. Государственным языком объявлялся язык русский (малорусский) до окончательного решения этого вопроса сеймом Подкарпатской Руси[515]. Правительство поставило задачу решить вопрос о границе между Подкарпатской Русью и Словакией. Бродий начал кампанию за присоединение к краю восточнословацких районов с русинским населением (Пряшевщины). Один из министров нового правительства, С. Фенцик, отправился в Прешов для обсуждения этого вопроса. В своей первой премьерской речи Бродий откровенно заявил, что «первое правительство Карпатской Руси предпримет все меры, чтобы объединить все русские области в Карпатах (от Попрада до Тисы) в один целый, свободный штат»[516].
Такое внимание к территориальному вопросу было вызвано претензией Венгрии на часть территории Словакии и Подкарпатской Руси, где проживало венгерское население. 25 октября 1938 г. Венгрия потребовала или проведения всенародного плебисцита, или арбитража европейских государств. 26 октября чехословацкое правительство согласилось на арбитраж.
Однако А. Бродий оставался премьером недолго. Вскоре он был обвинен в том, что долгое время работал на Венгрию, и 26 октября 1938 г. премьер-министром второго автономного правительства стал А. Волошин, что привело к укреплению украинского направления в общественно-политической жизни края. Новый состав автономного правительства стал исключительно украинским, и русофилы перешли в оппозицию, организуя антиукраинские митинги и демонстрации во многих карпатских городах. В свою очередь, Украинская народная рада опубликовала 27 октября 1938 г. в газете «Нова свобода» обращение «К украинцам всего мира! Ко всем украинским партиям, организациям, группам, обществам в Галиции, Буковине, Бессарабии, Поднепровской Украине, Канаде, Соединенных Штатах Америки и к украинцам в целом, где бы они ни проживали»: «Украинская народная рада выражала надежду, что великий 50-миллионный украинский народ… не допустит, чтобы наши вековечные враги налагали на нас путы, снова сажали нас в тюрьмы». Обращение было расценено как призыв о помощи, и в соседней Галиции прошли демонстрации в поддержку правительства Волошина (во Львове, Станиславе, Коломые), начались нелегальные переходы польско-чешской границы галицкими украинцами[517].
События вокруг Чехословакии развивались стремительно. 2 ноября состоялся первый Венский арбитраж, по которому к Венгрии отходили южные районы Словакии и Подкарпатской Руси с преимущественно венгерским населением. Подкарпатская Русь лишилась наиболее крупных в крае городов – Ужгорода, Мукачева, Берегова. Правительство Волошина перебазировалось из Ужгорода в Хуст. В начале ноября 1938 г. было создано общество Карпатская сечь с целью защиты «государственных и национальных интересов Подкарпатской Руси и укрепления оборонного духа в украинском обществе этого края, преодоления антигосударственной пропаганды и всесторонней поддержки правительства Подкарпатской Руси, особенно для поддержания порядка и безопасности»[518]. Команды сечевиков были созданы во многих населенных пунктах, возглавлял руководство Карпатской сечи Д. Климпуш.
ОУН с энтузиазмом восприняла события в Подкарпатской Руси, в автономию хлынул поток украинцев из Галиции, надеявшихся, что Закарпатье станет центром, вокруг которого образуется единое украинское государство. Польская полиция была озабочена событиями на Карпатской Украине (в одном из документов следственного управления в Тарнополе оно именовалось «карликовым наброском суверенного украинского государства»[519]): «Правительство свящ. Волошина, которое – избегая внутренних и внешних перетрясок – в настоящее время хочет посвятить себя работе на благо мира для укрепления украинизма на Прикарпатской Руси и экономического устройства, отдает себе одновременно отчет, что молодые эмигранты ориентируются не столько на авторитет Хуста, сколько на максималистскую программу и авторитет полковника А. Мельника, шефа Провода Украинских Националистов»[520]. Действительно, украинские радикальные националисты стремились занять главное положение в государственных и партийных структурах и руководстве Карпатской сечи и требовали решительных действий, в частности, по отношению к чехам и пражской власти. По словам представителя правительства автономии в Праге В. Шандора, молодежь из Галиции «принесла с собой не только пылкий патриотизм, но и формы и методы конспиративной антипольской борьбы, которые они стали внедрять в жизнь и в Карпатской Украине»[521].
22 ноября одновременно с законом об автономии Словацкого края, парламент одобрил и закон о Подкарпатской Руси, которая объявлялась автономной частью Чехо-Словацкой республики. Новый курс правительства был зафиксирован в новом распоряжении о языке: «государственным языком Подкарпатской Руси является малорусский, т. е. украинский язык, вплоть до решения этого вопроса сеймом»[522]. В конце декабря правительство распустило земское (краевое) правительство в Хусте и официально позволило употреблять наряду с названием «Подкарпатская Русь» также название «Карпатская Украина»[523]. Правительство Волошина жестко действовало в отношении оппозиционных сил. Премьер издал несколько указов о закрытии изданий, которые не устраивали новую власть, в том числе газет «Русин», «Карпаторусский Голос», «Русский голос» и журнала «Тиса». Последний был закрыт из-за публикации двух статей, в одной из которых редакторы убеждали своих читателей на местном варианте русского языка, что «новая республика и новая Подкарпатская Русь не обеспечат ему ту спокойную жизнь, ту русскую культуру и тот насущный кусок хлеба, каким он до сих пор жил». Была введена жесткая цензура оставшихся газет и журналов, были закрыты местные центры русофильского культурно-просветительского общества им. Духновича, а 20 ноября 1938 г. по указу Волошина в Карпатской Украине был создан и начал действовал концентрационный лагерь Думен вблизи Рахова[524].



