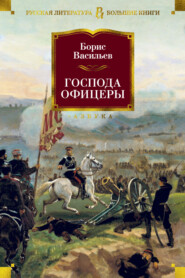
Полная версия:
Господа офицеры

Борис Васильев
Господа офицеры
© Б. Л. Васильев (наследник), 2021
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Книга I
Господа волонтеры
Часть первая
Глава первая
1– Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр… – Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.
Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамаши с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в Большой белый зал.
– Господа, прошу не задерживаться…
– Господин капитан, а танцы будут? – бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.
– О, мадемуазель Лора! – Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. – Как всегда, в одиночестве гордом? Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.
– А что скажет ваша очаровательная жена?
– Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.
– Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высокий шатен?..
– С туркестанским загаром? – улыбнулся Истомин. – Увы, пока нет.
– Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.
– Непременно, мадемуазель… Господа, очень прошу не задерживаться.
Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.
– Господа, прошу… – Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. – Олексин! Пожалуйте сюда!
Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.
– Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?
– Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?
– Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кызылкумах.
– Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это, или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?
– Если бы я вам привез именной его величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.
– От души поздравляю. – Адъютант пожал руку поручику. – А награда ждет вас в третьем ряду слева.
– Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду? – К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.
– Не вас, Тюрберт, не вас, – сказал Истомин. – Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.
– Мне чертовски скучно в Москве, Олексин. – Тюрберт опять зевнул. – Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик.
Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо посматривая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью – словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите! – слышалось ему в нестройном шуме зала. – Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер его величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелки, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но, ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было.
На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.
Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручениям Церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый, священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди.
– Актерствует отец, – насмешливо сказал студент рядом с Олексиным.
Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.
– …я ехал по выжженной, вытоптанной и напоенной кровью стране, – донеслось до него наконец. – И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноградники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской – услышьте же это слово, господа! – христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!
Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.
– Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом Божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи, – взывал я, – прими душу в муках почившего раба Твоего, а имя ему – человек».
Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина.
– Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.
Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прядали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догоравшее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божьим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы – той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскроенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, – под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто средь дороги – всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.
Так, обходя трупы или просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел в церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев! Четвертованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, – все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я возопил. «Господи! – кричал я, и слезы текли по моим щекам. – За что Ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человеков. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания Твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть от рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии.
Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находились жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лика земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение то называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по нескольку человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах у отцов и матерей, насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.
Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но – увы! – страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет, – кажется, они уже не боялись смерти! – спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому уже со всех сторон с гиканьем неслись всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один – очень молодой, в простой черкеске, но с богатым оружием – стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.
Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» – «Не знаю», – сказал старик. «Он врет, эфенди! – закричал переводчик. – Его сын сражался в Батаке!» – «Стыдно врать такому почтенному человеку, – сказал черкес. – А где твои дочери?» – «Не знаю», – тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгарином. А ты кто? Поп?» – «Я представитель Русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя, – сказал я. – Фирман султана разрешает мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом. Еще мгновение – и они открыли бы дверцы. «Назад! – закричал я. – Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем его величества султана!» – «Оставьте его карету, – приказал бек. – К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил Господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! – суетливо кричал переводчик. – Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» – «Зато эта семья не знает тебя, иуда», – сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за что его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганый язык. Где твои дочери, старуха?» – «Они ушли, они далеко отсюда. – Мать пала в ноги, ползала в пыли, пытаясь поцеловать сапог черкеса. – Эфенди, пощади нашу старость! Мы смирные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» – «Болгары не бывают невиновными, – сказал бек. – Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» – «Их нет здесь, нет, эфенди!» – «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! – властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. – На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг полдюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха… Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с изрубленным в куски отцом.
Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на коленях старшая дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрезала свои роскошные косы. «Я буду мстить, – сказала она. – Клянусь тебе, мать, тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней – это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..
Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекатывался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:
– Трагедия Батака и безымянного двора, быть свидетелем которой меня поставил Господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось. – Он достал газету и начал читать: – «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии, Стойчо Меченый! Молю Господа Бога нашего, чтобы продлил Он дни твои на земле и вложил в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!
Отец Никандр осенил себя широким крестным знамением и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал словно взорвался. Вскакивали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было бы похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.
– Мщения! – кричал багровый полковник, потрясая кулаком. – Мщения!
– Жертвую! – басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде. – Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!
– Подписку! Организовать подписку! Всенародно!
– Петицию государю! – кричали молодые офицеры. – Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!
– Все пойдем! Все как один!
Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре, и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.
– Отче! – громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк. – Благословите первого русского волонтера, отче.
2Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки – и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере в данный момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть; он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.
И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовлетворения командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отрапортовал.
Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы – признак, не предвещающий ничего хорошего.
– В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?
Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах – свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.
– Не одобряю, – пробасил он. – В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы – адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик.
Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его личные дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом… потом – женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею – кстати, и партия была вполне подходящая, – а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

