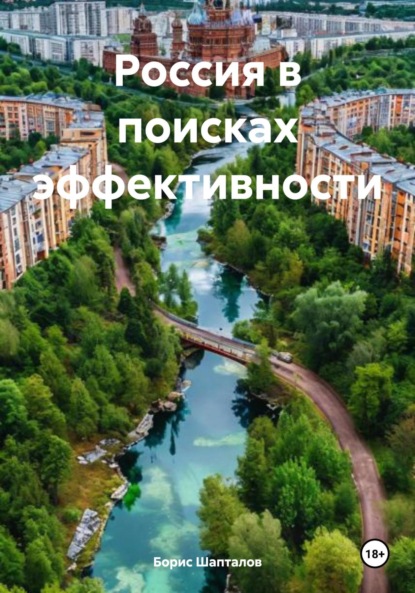
Полная версия:
Россия в поисках эффективности
В оппозицию такому выбору встали братья Александра – Ярослав и, имевший на тот момент титул великого князя владимиро-суздальского, Андрей. Звание великого князя давало реальное старшинство над княжескими домами Северо-Западной Руси. Правда, Александр тоже был великим князем, причем киевским. По историческим меркам не так давно киевским князь считался первым по значимости, потому историки и назвали государство «Киевской Русью». Но к тому времени значение Киева свелось к нулю и осталось два сильных княжеских центра – Владимир на северо-западе Руси и Галич на ее юго-западной оконечности. Так что у Александра Невского были серьезные оппоненты. Но князь Александр нашел козыри в борьбе за первенство. Дело в том, что в борьбу с ордынцам готовился вступить правитель Галицко-Волынского княжества Даниил. Он традиционно опирался на связи с Европой и даже принял королевскую корону от римского папы. (Корона должна была обязательно освящаться высшим религиозным авторитетом, как свидетельство получения власти от Бога). При этом Даниил не забывал об укреплении единства с остальной частью Руси. Залогом союза стало венчание дочери Даниила с Андреем в 1251 году. Андрей также пытался установить союзнические отношения с близлежащими европейскими государствами – Швецией, Ливонией, Польшей. Подготовка к борьбе шла нешуточная. Но… «Монголам стало известно об этом союзе, вероятно, благодаря самому Александру Невскому», – посчитал известный этноисторик Л.Н. Гумилев (1. С.129). Проще говоря, Гумилев, хотя и являлся поклонником князя Александра, заявил, что тот выдал тайну подготовки к борьбы с улусом Джучи. Так это было или нет доподлинно неизвестно. Но косвенные данные говорят не в пользу Александра Невского.
В 1252 году Батый, упредив назревавшее восстание, послал на Русь войско, причем это произошло едва ли не впервые, если не считать мелких стычек, после 1240 года. Одна рать под командованием Неврюя напала на Суздальско-Владимирские земли, другая, под предводительством Куремсы, на Галицко-Волынское княжество. Князья Владимиро-Суздальской земли были разбиты. Морально тяжелее всех, наверное, пришлось Ярославу. У него в плен попали дети, а жену убили. Оба князя успели скрыться. Андрей бежал в Швецию, Ярослав не один год скитался по разным землям. Новгородцы в 1255 году даже избрали его своим князем, но и оттуда ему вскоре пришлось бежать, спасаясь от войска своего брата Александра. Степняки в назидание и в закрепление успехов устроили новый погром Северо-Западной Руси, зато Александр Невский получил ярлык на великое княжение, заняв место брата.
Князь Даниил в тот год устоял. Но один в поле не воин. В 1259 году он был вынужден бежать в Венгрию перед превосходящим его силы войском ордынцев. Его преемникам ничего не оставалось делать, как согласиться с требованием срыть укрепления городов и отказаться от дальнейшей борьбы. То были последние совместные действия южной и северо-восточной частей бывшей Киевской Руси. Больше между этими частями политических контактов не было. Киевская Русь распалась окончательно.
Хлеб в эмиграции не сладок. Князь Александр протянул братьям руку помощи, предложив им вернуться домой. Условий было два – признание его старшинства и полное подчинение его политике с клятвенным целованием креста, благо, что глава русской церкви митрополит Кирилл являлся его верным союзником. Братья вернулись в 1255 году. Андрей даже получил в управление Суздальское княжество. Ярослав по смерти Александра стал его преемником на великом княжении. Братья не просто покорно занялись своими княжескими делами. В 1258 году они едут в столицу империи Чингисхана Каракорум испрашивать прощение у хана. На следующий год Александр берет Андрея в карательную экспедицию против взбунтовавшегося от притеснений ордынских сборщиков дани Новгорода. Так шло воспитание правящей элиты – через слом «гордыни». И Александр показал себя хорошим воспитателем. Он (как и ханы) понимал, что одними репрессиями преемственности в политике не добьешься. Оставь братьев в изгойстве, он способствовал бы превращению их в героев, пострадавших за правое дело. Александр Невский поступил мудрее. Он сохранил своих соперников, убив тем самым не их, а моральную правоту их дела.
Александр Невский – культовая фигура русской истории. Критиковать его – означает посягать на лелеемые мифы. В 22-летнем возрасте Александр сделал великое дело, разбив наступавшую рать Тевтонского Ордена, ударную мощь которой составляли немецкие рыцари. Правда, затем историки выяснили, что войско Ордена было небольшим и не могло угрожать независимости Руси (максимум пара сотен рыцарей и несколько тысяч воинов-ополченцев). Но это уже было не суть важно. История любого народа делится на научную и мифологическую части: на «так как было» и «так как надо тому быть». Дальше репутация работала на князя не только всю остальную жизнь, но и в последующие века. Однако жизнь в молодости не обязательно есть точное продолжение ее в последующие годы. В жизни Александра Невского произошел драматический «шекспировский» зигзаг. Ему выпала судьба стать Петэном ХIII века – наладить коллаборационистские отношения с Ордой. В 1257 году он всемерно способствовал переписи населения Северо-Восточной Руси ордынцами, которые решили точно определить плательщиков дани и число набираемых рекрутов в монгольское войско. Переписчики поделили население на группы: на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. По этим группам и разверстывалась дань. Руководители групп были ответственны за сбор налогов в них.
Л. Гумилев выгораживал своего любимца довольно оригинальным способом. Он доказывал, что организация сбора дани была предпринята чуть ли не по инициативе Александра Невского. «…Александр Невский договорился о союзе с Ордой для того, чтобы отвратить немецких рыцарей, и согласился даже для того платить «выход», который мы называем «дань». Выход – это был налог, который шел на военную помощь татар» (2. С.156). Мысль понятна за исключением одной детали: Орден больше не конфликтовал с Русью и помощь ордынцев была не нужна. К тому же в 1242 году русские дружины справились с немецкими рыцарями самостоятельно, а никакого усиления силы ливонцев в последующие годы не произошло. Так зачем надо было добровольно подписываться на иго непонятно. Иную оценку дали другие исследователи. Е.Н. Стариков посчитал, что произошло формирование «механизма самонастройки на все более «азиатский» лад» (3. С.279). Но опять же – зачем? Понятно, что сам князь ни о каком «азиатском ладе» не помышлял. Все получилось «само собой», в силу конкретной исторической обстановки. Однако сдвинутый камешек привел к неожиданным тектоническим изменениям.
В 1258 году Александр Невский поехал навязывать систему сбора дани Новгороду. Новгородцы идти в ярмо не хотели. Оно и понятно: монгольское войско до Новгорода не добралось и вдруг не разбитые новгородцы должны были признать господство тех, кого в глаза не видели. Их поддержал даже княживший там сын Невского Василий. Когда ордынские переписчики с владимиро-суздальским отрядом приблизились к Новгороду, Василий бежал в Псков. Александр настоял, чтобы там его взяли под стражу и выдали ему вместе с личной дружиной Василия. Расправа отца была суровой. Василия отправили домой, в Суздальскую землю, а его приближенным поотрезали носы, либо выкололи глаза. Странные подвиги для святого. Можно защищать политику Александра, славить его полководческие таланты, проявленные им в юности (и никогда более!), но выставлять его святым..? Слишком много грехов на нем. Одно дело политика и политику, увы, позволено переступать моральные нормы, и совсем другое подвиг общественного подвижничества и морального незапятнанности.
У М. Горького в «Жизни Клима Самгина» ученик отвечает своему учителю урок:
– Святой и благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских…
…– Откуда это? – удивился учитель.
– Вы сказали.
…– Это не нужно помнить» (4. С.53-54). И старались не помнить. В школьных учебниках живописно описывали битву на Чудском озере, но не усмирение новгородцев. Так возникла «удобная история», – рассказывать лишь то, что «полезно» и трактовать так, чтоб «вдохновляло».
Причины проордынской позиции Александра Невского неясны, и среди историков идут споры. Есть версия, что битвы со шведами и тевтонами произвели на молодого князя (тогда ему было 20 и 22 года) столь сильное впечатление, что он на всю жизнь стал убежденным антизападником. Подчиняя Русь Орде, Александр, по версии Л. Гумилева, просил взамен помощи в походе на Ливонию. Ради этого он и помогал ордынцам наладить сбор дани на Руси, беспощадно подавляя вспыхивающие волнения. Эта версия не подтверждена документами, но, тем не менее, переросла в сказку про желание Ватикана и императора Священной Римской империи захватить Русь. Историки давно опровергли этот домысел, но он живет и здравствует, то и дело встречаясь в исторической публицистике. Но самое главное во всей этой истории то, что после 1242 года Александр Невский больше не воевал с Западом. И не собирался! Поэтому современные трактовки «ультрапатриотов», что князь был непримиримым борцом с Западом не подтверждается фактами.
Более весома версия о том, что князь Александр вынужден был подчиниться Орде, чтобы охранить Русь от новых разорительных ударов. Дальше мы посмотрим, насколько эта версия сопрягается с фактами.
После смерти Батыя Александр едет в Орду к новому правителю, а затем к великому хану в Каракорум. На обратном пути, в 1263 году, он умирает. Версия Гумилева, что князь ездил к Чингизидам за помощью в организации похода на Запад, придумана самим Гумилевым, ибо никаких подтверждений в источниках такого замысла нет. Но заложенный им способ трактовки исторических событий остался и продолжает жить в «патриотической» публицистике.
Умирает ли князь, будучи отравлен по приказу хана, решившего избавиться от чересчур надоедливого союзника, втягивающего Орду в военную авантюру (Золотая Орда после европейского похода Батыя больше никогда не пыталась подчинить европейские земли) или, по предположению Л. Гумилева, «борьба с соотечественниками требовала слишком большого нервного напряжения, которое не каждому по силам» (1. С.133) неизвестно. Академическая наука придерживается мнения, что князь Александр ездил в Орду с благородной целью отговорить монгол от карательного похода на Владимиро-Суздальскую Русь после восстания там населения в 1262 году, выступившего против злоупотреблений ордынских сборщиков дани. Иная версия была выдвинута Е. Стариковым и некоторыми другими исследователями.
«Мотивы действий Александра станут сразу же ясными, если посмотреть на расстановку социальных сил на Руси накануне монгольского нашествия. С одной стороны, города с их торгово-ремесленным населением – центры товарно-денежных отношений и культуры. Роль их постоянно усиливалась… С другой стороны, феодальная верхушка – князья, «великие» бояре, дружина. Их роль на фоне возросшей мощи городов постоянно падает, они все более превращаются в простых наемников, находящихся на службе у стольных градов… Но вот появляются монголы и главный свой удар наносят, естественно, по городам… Монголы взваливают на Русь тяжелейшую дань. Дань эта естественным образом ложится не на князей, а на горожан. Горожане восстают и избивают баскаков. Что делают князья? Защищают баскаков и избивают горожан. Благодарные монголы передают функции сбора дани услужливым князьям… Вот тут-то соотношение сил между городами и князьями изменилось коренным образом…» (3. С.273-274).
Как все было на самом деле ответить крайне затруднительно. Многие детали тех событий невозможно установить из-за слабой источниковедческой базы. Уцелели лишь немногие летописи, да и те были нещадно правлены в позднее время в угоду официально-княжеской трактовке событий. Советским людям хорошо знакомо такое явление как переписывание истории. Вот только зародилось оно отнюдь не в советское время.
Александра Невского канонизировала и церковь, и государство. Так было им нужно. Вся правда была оставлена за скобками безбожно позолоченной официальной биографии князя. В качестве основы идеализации была положена гипотеза о коалиции в составе римского папы, германского императора, тевтонского Ордена и шведского короля, намеривавших захватить и поработить Русь. Этим замыслам, якобы, не дано было осуществиться из-за союза с Ордой, заключенного Александром Невским. Историки не нашли в архивах подобных планов. Ну и что? Католическая церковь была экспансионистской, стремящейся к мировому духовно-идеологическому господству организацией, прибегавшая для этого к военно-политическим средствам, вроде крестовых походов. Так что Александр Невский мог опасаться натиска Запада, будучи при этом уверенным, что Орде не нужны ни земли Руси, ни ее духовно-религиозная особость. Отсюда выбор союзника, который стал больше, чем союзником – цивилизационной опорой. Так это было или совершенно иначе – дело политического вкуса, ибо никаких документальных данных нет. Но что является доказанным фактом, так то, что при Александре Невском начался складываться симбиоз (совместное существование) Северо-Восточной Руси и Орды на вассально-полусоюзнических отношениях.
В то же время для антизападных политических и интеллектуальных кругов российского общества фигура Александра Невского стала чрезвычайно удобной для обоснования полного неприятия Запада. Церковь всецело поддерживала дело Александра и после его кончины. Он люб ее иерархам за его бескомпромиссное противостояние католицизму. Католицизм и папа римский были тогда единственными конкурентами, тогда как язычники-ордынцы не вмешивались в религиозные дела, и к тому же освободили церковь от налогов. Совпадение интересов одного политического деятеля и мощной, по существу единственной идеологической организации, привели к канонизации и возвышение образа Александра Невского в качестве образца для подражания.
Александр Невский выбрал антизападную политику в пользу проордынской, исходя из резонных и логичных умозаключений в своей системе ценностей. Главный аргумент, оправдывающий политику Александра Невского, заключен в следующем доводе: хоть Александр и придавил свой народ, но избежал войны с Ордой. Критика же деятельности князя состоит в том, что Александр Невский, переоценив степень угрозы с Запада, не стал исподволь готовить страну к борьбе со степняками, как это сделал потом Дмитрий Донской, а целиком переориентировал внешнюю и внутреннюю политику на империю Чингизидов.
Малочисленные немецкие рыцарские ордена тевтонов и меченосцев продвигались вперед, завоевывая слабые языческие племена Прибалтики, до тех пор, пока не встретили организованный отпор со стороны. На этом их экспансия захлебнулась. Куда уж было Тевтонскому ордену, завязшему в борьбе с Польшей и литовскими племенами, проглотить во много раз большую Русь со столь мизерными силами!
Поклонники Александра Невского считают его выразителем национальных интересов, что является неверным выводом. Понимания власти как концентрата национальных интересов имеет куда более длительную эволюцию. Александр, как и его предшественники, рассматривали Русь главным образом через призму своих княжеских уделов. Поэтому когда они приглашали идти войной на других князей половцев или ордынцев, то не видели в этом акте предательства национальных интересов, ибо боролись за реальные интересы своей княжеской династии, своих земельных наделов, за великокняжеских престол, а не за «государство Русь». И так было весь феодальный период по всей Европе. Лишь с образованием абсолютистских (королевских) государств формируется нация, а с ней понятие «национальный интерес». А до того новгородцы были одно, суздальцы – другое, галичане – третье (вспомним, что мушкетер д`Артаньян был гасконцем, но не французом, а то был уже XVII век!) и лишь князья представляли единый политический субъект, формируя феодальные государства-конгломераты с размытыми границами, потому они объединяли чуждые по многим параметрам племена и народы, но не консолидированные нации.
* * *
Исследователь той эпохи вправе выбирать версию событий того периода по своему вкусу, хотя в исторических анналах есть сходная ситуация. Герой Первой мировой войны маршал Петэн на суде объяснял свою позицию сотрудничества с гитлеровцами желанием сохранить от оккупации часть Франции и заботой о сохранении жизни французских граждан, для чего ему пришлось идти на жертвы: платить репарации (тоже своего рода дань) и отправлять работать на чужбину тысячи своих соотечественников (тоже делали князья). В ответ его приговорили к пожизненному заключению. А национальным героем стал де Голль, начавший, казалось бы, бесперспективную борьбу… Петэн спасал остатки государства, де Голль – национальный дух. Кто прав, если учесть, что де Голлю повезло – оккупация длилась недолго? А если бы она растянулась на десятилетия? Так стоило Руси бороться с Ордой или нет? Спор о событиях семисотлетней давности имел бы узкоспециальное значение, если б вслед за «призванием ордынцев» на Русь не произошло «призвание» нового цивилизационного кода, отличного от того, что, вроде бы, укоренился в период Киевской Руси.
Спор о казусе Александра Невского может длиться бесконечно, ибо имеет вкусовой привкус. Одним его политика нравится (спас «национально-православную идентичность»), другим – нет («заразил Русь вирусом азиатчины»), а разницу в наследии можно зримо увидеть, если пересечь границу по Чудскому озеру и посмотреть жизнь сначала в Псковской и Новгородской областях, а затем в «тевтонской» Эстонии. Так от чего защитил Русь Александр Невский? Если сравнить положение Прибалтики, Польши, Чехии с Россией, то получается, что от европейской культуры. А стоило ли? С точки зрения иерархов православной церкви и евразийцев – да. Но, разумеется, может быть и другая точка зрения. И она была сформулирована и озвучена в лице идеологии западников, о чем речь будет идти ниже.
Спор, как обычно, решает жизнь. Русь-Россия осталась в традициях Орды («самобытной»), но подспудно издавна перенимала и перенимает достижения тех, с кем боролся князь Александр. Так Россия стала европейско-азиатской страной с обусловленными природой такого антагонистического симбиоза сложностями. Таковой, похоже, и останется со всеми векодавними «традиционными» проблемами, в том числе «вечной» проблемой эффективности государственного управления.
После смерти Александра Невского проордынский «коллаборационизм», как главная ось политики владимиро-суздальских, а затем московских князей, сохранилась. Дух патриотизма, даже регионального, изрядно выветрился. Многие князья видели в ордынцев не врагов, а союзников и вовсю стали использовать их вооруженные силы в своей борьбе между собой. Поэтому вряд ли правомерно говорить о «татарско-монгольском иге», как в последующем о «русском иге» по отношению к татарам. Мало того, что словосочетание «татарское иго» изрядно раздражает современных татар, которые считают, что их делают козлами отпущения. И они правы в своем неприятии известного словосочетания. Нынешняя Татария до Батыя называлась Булгарией и была завоевана монголами. Лишь после принятия монгольскими ханами ислама началась интеграция бывших булгар-мусульман (ислам был принят ими в VIII веке) в государственную систему Орды. А вот русские князья, начиная с Александра Невского, изначально стали составной частью «ига». Без их помощи не производился сбор дани, и они, а не кто либо другой, проводили политику сотрудничества с Ордой задолго до переформатирования угнетенных булгар в новый этнос – татар. И когда татарский народ сложился, «иго» уже существовало и «процветало» несколько поколений.
Последняя четверть ХIII отмечена постоянными вторжениями ордынцев в русские пределы с грабежами, убийствами и уводом людей в рабство. Но вели их теперь сами князья. Если Александр ходил с ордынцами на русские города, то чем его преемники хуже? Особенно отличился его сын Андрей (не путать с братом Андреем), вполне законченный мерзавец, как минимум, четырежды приводивший полчища ордынцев на свою страну. Причина была очень «уважительная»: он боролся со своим братом Дмитрием за ярлык великого князя. Особенно тяжелы были нашествия 1281 и 1293 годов с кровопролитными погромами. Летописцы не находили красок, чтобы описать творившийся ужас, когда разлучались семьи с уводившимися в рабство мужем, женой или детьми, когда насиловались монахини, сжигались дома, разорялись хозяйства, превращая людей в нищих. Брат Дмитрий на его фоне выглядел примерным христианином и почти патриотом. Он приводил степняков всего один раз. Совокупно, по подсчетам историка В.В. Карголова, за 30 лет Русь претерпела 15 походов, заливших северо-восточную часть страны кровью.
Отметим «на полях», что в древнерусском государстве обозначилась тенденция, которая для средневековья была «обычной», но для России почему-то стала укорененной. Суть ее – это систематический подрыв жизнедеятельности государства самими правителями. На эту тему придется говорить еще много.
За цифрами набегов и фактами княжеских междоусобиц стоит трагедия сотен тысяч людей. 30 лет, при средней продолжительности жизни в 40 лет, это срок сознательной активной деятельности человека. И все они прошли в поборах со стороны своих и чужих, в постоянной угрозе разорения от набегов. Было отчего опустить руки. Но ведь период «шалостей» детей Александра Невского не закончился с их смертью (Андрей умер в 1304 году). Приводы ордынцев князьями продолжались. Сохранялось двойное налогообложение – в пользу местных властей и в пользу ордынцев. Только Орда ввела около полудюжины налогов. Помимо ясака (собственно дани), был харадж (от каждого плуга), сусун и улуф (корм и питье), конак (дары, гостевая пошлина), тамга (торговая пошлина). Естественным было в этих тягостных условиях появления негативных тенденций самого разного свойства – от духовных до материальных: укоренения апатии народа, прекращения градостроительства, оттока населения из городов, которые являлись первыми объектами нападения и грабежа. Многие цветущие районы бывшей Киевской Руси не смогли восстановиться после обрушившихся на них ударов. Некогда блиставшие Черниговское и Галицко-Волынское княжества навсегда сходят с подмостков истории. Эти территории превращаются в глухую периферию. Не смог встать на ноги и Киев. Блиставшая некогда Киевская Русь превратилась в окраину – «украину» – цивилизованного мира. И лишь Северо-Восточная Русь продолжала развиваться несмотря ни на что. То был настоящий подвиг поколений ордынского времени. По этому росту – росту вопреки – можно судить сколь велика была совокупная энергетика людей, заселивших в ХI-ХII веках окраинный, лесной край, требовавший огромных затрат труда на его освоение, и передавших свою моральную силу потомкам. Теперь ясно, что переселялись туда люди отборные – храбрые, работящие, мастеровитые, волевые. Без этих качеств создать в короткие исторические сроки в «чистом поле» мощное княжество-государство размером с Францию просто невозможно. Удивительно и то, что последующие поколения не растеряли этот потенциал, а использовали его до конца – до уничтожения Орды и создания великой державы.
Именно этому феномену посвящен великий фильм А. Тарковского «Андрей Рублев». Он задолго до падения в пропасть современного ему государства обратился к проблеме сохранения морально-духовных сил народа, как основы возрождения общества и государства. Тарковский с художественной убедительностью и наглядностью показал из какого «сора» произрастают эти силы, чем вызвал неудовольствие не только бюрократов от идеологии, но и отдельных «почвенников». Потому «примирительная» политика Александра Невского, охватывавшая самые «энергоемкие» районы Руси – Новгородско-Псковскую и Владимиро-Суздальскую земли, куда уже накануне вторжения Батыя явно смещался политико-экономический и отчасти духовный центр Руси, имела особое значение. Раз центр – значит лидер, раз лидер – значит, от качественных характеристик данного лидера будет во многом зависеть государство и общество в целом. Политика Александра Невского прямо воздействовала на будущую судьбу находившейся в стадии кардинального обновления «варяжской» Киевской Руси. Первым плодом ее стал окончательный отрыв Западной части Руси от Восточной. Вторым – стал насильственно вживляемый с 1250-х гг. ген «азиаткости» в социально-политический генотип Северо-Восточной Руси. Суть его отчасти выразил автор ХIX века Х. Энгельман в обстоятельно-информативной книге «История крепостного права в России»: «И самый закон и его формулировка характерны для московских порядков: в них обращается внимание не на взаимные права затронутых лиц, а лишь на текущие потребности государства».
Возникновение даннических отношений с Ордой и фискальные функции князей, обслуживающие интересы другого государства, а заодно и свои, как раз отражают формирование подобной правовой системы, ставшей «традиционной» для Руси-России-СССР. Только место Орды по отношению к населению заняло само государство.
Другая определяющая особенность складывавшего «азиатского» кода состояла в том, что, в отличие от государств Востока, на северо-западе Руси он стал формироваться не с «базиса», а с «надстройки», – с правящего класса. Процесс структурирования «восточного общества» растянулся на триста лет и завершился установлением крепостного права и соответствующих ему поземельных отношений – главных производственных отношений доиндустриального общества. Такой отчасти искусственный процесс модернизации – сверху вниз – стал отныне отличительной чертой Руси-России, ее каиновой печатью. Именно такой способ эволюции определил ее кардинальное отличие от Европы и европейского цивилизации. Такое перевертывание хода цивилизационных событий превратило Россию в страну, которую «умом», то есть принятой в Европе методологией, не понять.

