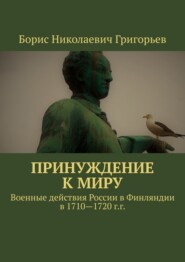скачать книгу бесплатно
Шведская армия в Финляндии
Современный финский историк К. Хяккинен[6 - К. Хяккинен «Финляндия вчера и сегодня», Мари-Эл, 1997 г.] пишет:
«Слава Швеции как великой державы и вообще-то не слишком грела финнов. Швеция, чтобы стать великой державой, расширяла свои владения, напрягаясь из последних сил, и, разумеется, финнам досталось тяжелое бремя. Шведским армиям, постоянно ведшим войны, бесконечно требовались новые солдаты, что истощало людские ресурсы и тем самым затрудняло ведение сельского хозяйства в Финляндии».
Не объясняет ли этот вывод хотя бы частично ту достаточно лёгкую цену, которую русская армия заплатила за Выборг и за победу, которую она одержала над шведской армией в 1712—1714 г.г. в Финляндии? Ведь значительную часть шведской армии в Финляндии и её тыла составляли финны. Мы склонны ответить на этот вопрос утвердительно – так же, как и объяснить последующие неудачи шведов в Северной войне низким морально-психологическим и боевым духом самих этнических шведов. Полтавское сокрушительное поражение, непонятное долгое «сидение» короля в Бендерах, усталость страны, – всё это давало о себе знать после 1709 года.
Сколько было финнов в шведской армии и как они были использованы в Северной войне? Мобилизация финских полков была проведена в самом начале Северной войны – в январе 1700 года. Общая их численность, согласно Гриппенбергу, составила 9333 человека – 6333 пехотинца и 3000 кавалеристов. Все пехотные полки, за исключением Эстерботтенского, имели некомплект личного состава от 7 до 20%. Кроме того, был сформирован вербованный Карельский ланддрагунский эскадрон в 313 человек.
Прибегли и к набору временных частей. Это произошло в июле-сентябре 1700 года, когда были сформированы Обусско-Нюландско-Выборгский, Обусский четырехочередной, Нюландский четырехочередной, Карельский четырехочередной кавалерийские полки и Финский сословный кавалерийский эскадрон, Обусско-Бьёрнеборгско-Нюландский третьеочередной, Тавастхюстско-Выборгско-Саволакский пехотные полки, Бьёрнеборгский, Обусский, Тавстгустский, Нюландский, Выборгский и Саволакский четырехочередные пехотные батальоны, общей численностью в 9889 человек – 6648 пехотинцев и 3568 кавалеристов. Все эти части поступили под командование графа Отто Веллингка и действовали против саксонцев и русских в Прибалтике, а несколько финских полков приняли участие в сражении при Нарве 18/19 ноября 1700 года.
С уходом главных сил шведской армии в Польшу бремя военных действия в Прибалтике фактически легло на финские части. Эти части, находившие на территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и Карелии, приняли активное участие в военных действиях против русских в 1701—1706 годах (Эрастфер, Гемауэртхоф, Гуммельсхоф и др.). Потом финны воевали в составе корпусов Крунъюрта и Любеккера, пытавшихся сбить русских с приневского района. При этом финская армия в основном была привязана к двум крупным опорным базам – Выборгу и Кексхольму.
Е. Тарле справедливо пишет, что представление о том, что шведы и шведский король относились к успехам русской армии пренебрежительно, не соответствовало действительности. Во всяком случае, если не сам король, то его генералы и правительство в Стокгольме понимали нависшую над Прибалтикой и Финляндией опасность и принимали меры по парированию успехов русской армии. Королевская администрация, в частности, напрягала все силы для пополнения финского корпуса, чрезвычайно жёстко собирались налоги, в Карелию перебрасывались части, набранные в оккупированной Саксонии или взятые в плен на полях сражений, например, под Фрауштадтом. Так в 1707 г. на шведскую службу перешли саксонский пехотный полк I.B.Schommer и 3 пехотных батальона (А.Boje, H.М.Sailenburg, Е.Str?hlborn), которых шведское командование перевело в Финляндию, подальше от родных мест в Германии, чтобы те не могли дезертировать.
Перед русским походом король Карл XII запланировал крупную диверсию против Петербурга, надеясь ею отвлечь русские силы от направления своего главного удара на Москву и одновременно стереть с лица земли Санкт-Петербург. С такой задачей летом 1708 года в поход выступил корпус генерала Любеккера.
К июню 1708 года финская армия под командованием генерал-лейтенанта Любеккера состояла из следующих частей:
Шведско-финляндский полк дворянского знамени (адельсфан) – ротмистр А. Мунк (30 человек);
Обусский резервный кавалерийский полк – полковник К. Пересветов— Морат (667 человек);
Нюландский резервный кавалерийский полк – полковник А.Е.Рамсей (667 человек);
Карельский резервный кавалерийский полк – генерал-майор К. Г. Армфельт (667 человек);
Вдовствующей Королевы конный лейб-регимент (Лифляндский кавалерийский фон Тизенгаузена) – подполковник Г. Глазенапп (390 человек);
Ингерманландский вербованный драгунский полк – полковник Х. Хастфер (600 человек);
Тавастхюстский пехотный полк – полковник Г. Зюлих (1025 человек);
Саволакский пехотный полк – полковник Е.Е. де Альбедиль (1000 человек);
Обусский резервный пехотный батальон – полковник А.Ф. фон Крусеншерна (684 человека);
Бьёрнеборгский резервный пехотный батальон – полковник М. Шернстролле (680 человек);
Тавастхюстский резервный пехотный батальон – полковник О.И.Мейдель (661 человек);
Нюландский резервный пехотный батальон – полковник К. Бойе (674 человека);
Выборгский резервный пехотный батальон – полковник Ю. Штирншантц (869 человек).
Саволакско-Нейшлотский резервный пехотный батальон – полковник А. Пересветов-Морат (1036 человек).
Ингерманландский вербованный пехотный полк – полковник Х. Хастфер (1000 человек).
Саксонский вербованный пехотный полк – полковник Ю.Б. фон Шоммер (1152 человека).
Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник Е. фон Штрэльборн (510 человек).
Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник А. Бойе (521 человек).
Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник Х.М. фон Зейленбург (518 человек).
Итого в армии, согласно современному шведскому историку К.О.Нурденсвану, насчитывалось 13291 человек: 2991 кавалерист и 10300 пехотинцев. За исключением нескольких мелких подразделений, оставленных для несения гарнизонной службы, финляндский корпус, выступивший в 1708 году на Санкт-Петербург, насчитывал примерно 12700 человек при 25 орудиях.
Как мы знаем, поход Любеккера окончился полным провалом и победой русского оружия. На несколько лет на северо-западном фронте наступило затишье, которое было нарушено Выборгской операцией русской армии в 1710 году.
Подготовка к походу
Дисциплина – мать победы.
А. Суворов
Е. Тарле писал, что задача завоевания Южной и Юго-западной Финляндии диктовалась Петру всей политической и стратегической обстановкой: «Отношения с союзниками стали таковы, что Пётр очень зорко следил за польско-саксонскими войсками, которые весьма подозрительно маневрировали около Курляндии. С Данией тоже многое не клеилось и не приходило в ясность. Речи не могло быть о том, чтобы сильным ударом союзных флотов с юга, от Копенгагена, Борнгольма, Данцига, Ревеля, заставить шведов мириться».
После завоеваний 1710 года именно мир со шведами стал главной задачей политики Петра. Но если этот сильный удар нельзя было нанести с южных берегов Балтийского моря, то оставался лишь один исход: базироваться на северном берегу Финского залива, взять Хельсингфорс и Обу, попытаться овладеть Аландскими островами, превратить юго-западную Финляндию в плацдарм для нападения на шведские берега и на первых порах хотя бы создать серьёзную угрозу нападения. Пётр полагал, что этого было достаточно, чтобы заставить шведов согласиться на мир. Завоеваний в самой Финляндии, т.е. новых постоянных земельных приобретений, царь не искал, он решил удовлетвориться полосой земли между Кексхольмом и Выборгом.
В 1710 году все морские порты на восточно-балтийском побережье оказались в руках русских. Шведский корабельный флот мог теперь оперировать только из портов метрополии, а небольшой галерный флот – пользоваться базами на Аландских островах и городах южной Финляндии. И вот теперь наступила очередь самой Финляндии. «Сия провинция, суть титька Швеции… не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль; и ежели Бог допустит летом до Обува (?bo, прим. авт.), то шведская шея мягче гнуться станет». Это строки из письма Петра I генерал-адмиралу графу Ф.М.Апраксину о значении и роли Финляндии прозвучали как сигнал к началу подготовки предстоящего похода.
Многим покажется странным, что с сентября 1710 года русское правительство не принимало никаких мер к широкому вторжению на финскую территорию. Тому есть целый ряд причин. На одну из них – войну с турками и Прутскую неудачу русской армии – мы уже указывали в предисловии. Во-вторых, русские войска из-за интриг союзников надолго завязли в Померании. В-третьих, вся Европа всячески интриговала против России, стремясь вытеснить её из Германии. Это было вызвано усилением России на Балтике. Ни одно европейское правительство не желало окончательного поражения Швеции. В-четвертых, – и об этом мы уже тоже говорили – на Балтике всё ещё господствовал шведский флот.[7 - На начало Северной войны шведский ВМФ считался четвёртым по количеству линейных кораблей (38) и корабельных орудий, уступая в силе флотам Англии, Франции и Голландии. В целом эти позиции флот Швеции занимал и в середине войны.] Русский «большой» флот на 1711 год насчитывал всего 3 больших корабля и 2 фрегата, в то время как шведская эскадра, сторожившая выходы из Финского залива у архипелага Бъёркё имела 9 кораблей и 2 фрегата.
Главной причиной пассивности русского флота была, однако, недостаточная подготовка экипажей и нехватка морских офицеров. Иностранные офицеры-наёмники часто проявляли трусость и неповиновение приказам командования, не желая подвергать свои жизни риску. Так в октябре 1711 года из-за отказа поручика Ventura выполнить приказ была сорвана тщательно подготовленная атака брандеров на шведскую эскадру, стоявшую на якорях в Выборгском заливе. Русский морской историк Н.А.Бестужев отмечал, что между офицерами и членами экипажа на кораблях постоянно происходили недоразумения и недопонимание, людей постоянно переводили служить с галерных судов на большие корабли и наоборот, провиантирование и артиллерийское вооружение флота оставляло желать много лучшего. «И всё это вместе… составляло российский флот более для видимости…, нежели для действия против неприятеля», – писал он.
Так что вопрос о вторжении в Финляндию окончательно «созрел» лишь в конце 1711 года, а к январю 1712 года был сформирован т. н. Ингерманландский корпус под командованием генерал-фельдмаршала князя А.Д.Меншикова.
Корпус состоял из следующих частей:
Кавалерия: а) генеральный эскадрон самого А.Д.Меншикова, б) Луцкий и Нарвский драгунские полки, расквартированные в Санкт-Петербурге, Копорье и Сомерской волости, в) Олонецкий и Вятский драгунские полки, растянутые кордонами от Нарвы до Ревеля и Пернова, г) Вологодский драгунский полк в Лифляндии и д) казаки в Выборге, Кексхольме и Санкт-Петербурге.
Пехота: а) полк Апраксина и Галицкий полк в Выборге, б) полки Юрлова и Инглиса, Архангелогородский, Гренадерский и Санкт-Петербургский полки в Санкт-Петербурге и в) Азовский и Троицкий полки в Риге.
Гарнизонная пехота: а) Белозерский полк и полки Шицова и Гулица – Санкт-Петербург, б) полки Толбухина, Молчанова и Островского – Кронштадт, в) полки Зотова и Грекова – Ревель, г) губернаторский полк А.Д.Меншикова, д) обер-комендантский полк Я.В.Брюса, е) Рижский и Питершанецкий полки – Рига, ж) полк Кропотова – Динамюнде, з) полк Давыдова – Пернов и и) полки Шувалова, Желтухина и Неклюдова – Выборг.
Конечно, Ингерманландский корпус был корпусом лишь по названию – это была полноценная армия. А.З.Мышлаевский пишет, что согласно штатам 1711 года, в распоряжении Меншикова должно было быть 12 000 пехотинцев, 5500 драгун и 18000 гарнизонных войск. На самом деле, согласно поданным рапортам, в войсках числилось: в пехоте – 6656 человек (некомплект 3415 человек), в кавалерии – 4418 человек (некомплект 2022 человека), а в гарнизонных частях – 14500 человек (некомплект 2003 человека).
Возникает вопрос, откуда такой чудовищный некомплект в войсках. Ответ находим в сохранившихся документах Российского Государственного архива древних актов:
«Поелику провиянту зело мало, а скудость в сих местах великая, а подвозу ни какого нет, в магазейнах запасу на месяц… Лекари худы, вода зело плоха, а от того от скорбута[8 - Цинга.] напасть великая… В нетях число великое, а рекруты мрут. Тягости великия, совсем оскудели… А в региментах мундиров нет, сукно худое, чулок число малое, башмаков и сапог недостача великая… Едино ладно пушки хороши и пороховой запас тож… А в Галицком полку палатки худые, фузей число малое, надо 450, а Азовском полку тож фузей нехватка 400 штук, котлов 25, котелков 40. Шанцевый струмент худ, кирки да лопаты ломаютца, а иные взять неоткуда».
Это цитаты из докладов генерал-лейтенанта М.М.Голицына царю Петру по итогам проверки состояния вверенных ему частей в июне 1712 года. Совсем плохо дела обстояли в драгунской бригаде Чекина и в Вологодском драгунском полку. Эти части вообще не имели палаток, топоров, телег, шанцевого инструмента, котлов и приданных полковых орудий. Не хватало мундиров и конского состава. В Гренадерском полку не хватало 116 палаток, 10 патронных ящиков и много другого имущества. Во многом это были последствия руководства Ингерманландией взяточника и казнокрада князя А.Д.Меншикова, который безнаказанно отбыл для принятия командования русскими войсками в Померании[9 - Сей «птенец» Петра проявит свои качества взяточника, казнокрада и обманщика и в Померании.].
М. Рабинович пишет, что пришлось расформировать пехотные полки Апраксина и Юрлова и направить их личный состав на доукомплектование других частей. Отметим, что А.Д.Меншиков командовал корпусом только до его выступления в поход.
Подготовка к походу проходила в крайне неблагоприятных условиях, однако Пётр I на сей раз не собирался отступать от задуманного и уже 16 января 1712 года издал указ об усилении Ингерманландского корпуса четырьмя пехотными полками – Сибирским, Нижегородским, Псковским и Казанским.
К концу июня окончательно определился состав и командование русским экспедиционным корпусом, предназначенным для завоевания Финляндии. Главнокомандующим стал генерал-адмирал граф Ф.М.Апраксин, а его заместителем – генерал-лейтенант князь М.М.Голицын (1675—1730). Читателю будет небезынтересно познакомиться с этими военачальниками поближе.
Федор Матвеевич Апраксин (1661—1728) принадлежал к старинному боярскому роду. Его сестра Марфа Матвеевна вышла замуж за старшего (сводного) брата царя Петра I – Фёдора Алексеевича (1676—1682). Таким образом, он приходился дядей будущему русскому императору. Службу начал стольником при дворе Петра I в 1683 году. Был записан в потешный Семеновский полк, участвовал во всех мероприятиях юного царя, в том числе в строительстве потешной флотилии на Переяславском озере. Сопровождал Петра во время первой поездки в Архангельск в 1692 году. Был Архангельским воеводой в 1692—1693 годах.
Ф. М. Апраксин
Под его руководством был построен первый русский торговый корабль. С 1695 года поручик Семеновского полка. В 1697—1699 годах надзирал за строительством кораблей в Воронеже и принял участие в Керченском морском походе. С 1700 года пожалован званием адмиралтейца и назначен главой Адмиралтейского приказа. Возвёл Таганрог и Азовскую гавань. С 1706 года глава Оружейного, Ямского, Адмиралтейского приказа и Монетного двора, с 1707 года адмирал. В 1708 году одержал победу над экспедиционным корпусом Любеккера в Ингрии. В 1709 году воронежский генерал-губернатор. В 1710 году командовал корпусом, взявшим Выборг. Отличался высокой работоспособностью, широким диапазоном знаний, неподкупностью.
Михаил Михайлович Голицын (1675—1730) происходил из княжеского литовского рода Гедеминовичей. В двенадцать лет стал барабанщиком Семеновского полка, в 1694 году произведен в прапорщики. Высокообразованный, храбрый, исполнительный, прекрасный командир, он произвел впечатление на юного Петра и вошел в его ближнее окружение. В 1695 году во время первого Азовского похода именно его полурота сдерживала натиск османов, пока русские войска после неудачного штурма отходили к лагерю. За отменную храбрость и распорядительность получил чин поручика. Во время второго Азовского похода ранен стрелой в ногу, но поля боя не покинул, за что произведен в капитан-поручики. В начале Северной войны, в неудачном для русских сражении под Нарвой, Голицын был дважды ранен, но остался в строю, наградой ему стали чины майора и подполковника. Отличился при взятии Нотебурга, за что получил золотую медаль, три тысячи рублей, 394 крестьянских двора в Козельском уезде и звание полковника лейб-гвардии Семёновского полка. Принимал участие во взятии Ниешанца и Нарвы. В 1705 году за взятие Митавы получил чин бригадира, с 1706 года генерал-майор, назначен командующим лейб-гвардии Семёновским, Ингерманландским, Вятским и Черниговским пехотными полками. 29/30 августа 1708 года одержал победу над отрядом генерала Рооса при Добром, за что получил орден Святого Андрея Первозванного, а за отвагу при Лесной 28/29 сентября 1708 года произведен в генерал-лейтенанты. В Полтавском сражении командовал гвардией и принудил к капитуляции при Переволочной остатки шведской армии. Брал Выборг. Принимал участие в Прутском походе 1711 года.
При главной квартире корпуса состояли также генерал-майор Р.Я.Брюс (Санкт-Петербургский обер-комендант), генерал-майор князь А.Г.Волконский, преследовавший остатки шведской армии и самого Карла XII после Полтавского сражения, генерал-майор И.И.Бутурлин (1661—1738), генерал-майор Н.Ф.Головин, бригадиры Г.П.Чернышев (комендант Выборга) и Чекин. Командующий казаками был наказной атаман Черский, начальник артиллерии – подполковник Хеннингк, а штабс-квартирмейстер – подполковник Маслов.
В финский поход отправилась лишь часть Ингерманландского корпуса. Мышлаевский приводит о нём следующие данные:
Кавалерия включала генеральный эскадрон А.Д.Меншикова и Луцкий, Нарвский, Вятский и Вологодский драгунские полки, всего 4560 строевых и 793 нестроевых чина и 4483 лошади.
Пехота состояла из 8 полков: Гренадерский, Троицкий, Санкт-Петербургский, Сибирский, Псковский, Великолуцкий, Архангелогородский и полк Иглиса, всего 7300 строевых и 1349 нестроевых чинов. К 12 760 солдатам и офицерам регулярных войск был присоединен солидный отряд казаков в 9000 человек.
В соответствии с принятым планом следовало действовать от Выборга, вдоль побережья в направлении Обу. Местность, на которой должны были проходить военные действия, изобиловала множеством водных преград, узкими дефиле и густыми лесами. Собственно поэтому и было принято решение воевать в наиболее густо заселенной прибрежной полосе. Кроме того, сухопутную армию должен был поддерживать Балтийский флот.
Мышлаевский пишет: «Эти действия, вследствие особенностей Финляндии как театра войны были ведены при исключительных условиях. Крайняя пересечённость местности, обилие внутренних вод, длинная, изрезанная береговая линия, обрамлённая к тому же шхерною полосою, недостаточные средства страны для удовлетворения потребностей армии в квартирах, продовольствии и транспортах, редкое, инородческое, враждебное нам население – всё это создавало такую обстановку, которая должна была сообщить своеобразный характер и стратегической стороне операции, и подробностям её исполнения. Укажем, например, что, по основной идее, план Государя, по мере его разработки, сводился к постепенному овладению несколькими прибрежными пунктами (Выборгом, Форсбю, Хельсингфорсом, Або и Гангутом). Вследствие этого военные действия пробрели характер совместной операции сухопутной армии, галерного и корабельного флотов, сопровождавшейся десантами и даже морскими боями сухопутных войск, посаженных на морские суда (Гангутский бой). Затем в тех случаях, когда потребность обеспечить избранные операционные пути направляла армию вглубь страны, война носила специальную окраску действий за овладение теснинами. Отряды в этих случаях были организованы со значительными отступлениями от обычных порядков того времени (напр., не располагали достаточною артиллериею, конницею и перевозочными средствами). Наконец, тыл армии в течение всей войны состоял из узкой, уязвимой со стороны моря, полосы; довольствие же войск приходилось обеспечивать почти исключительно путём подвозов на ластовом флоте».
Перед наступлением было подготовлено обращение к жителям Финляндии, в котором объяснялись причины похода русских войск на её территорию. Нас интересуют два аспекта этого объемного документа: взаимоотношения с мирным населением и объяснение целей похода. Первый аспект декларировался заявлением, что «войска его царского величества будут поступать приятельски с местными обывателями», что на практике, конечно, строго не выполнялось. В памяти финнов этот этап Северной войны вошел как время «Великого лихолетья». Русские грабили местное население так же, как шведы грабили во время походка Карла XII 1708—1709 г.г. польское, русское, белорусское, литовское и украинское население. Особенно отличались при этом казаки, которые, как правило, не состояли на государственном довольствии и добывали себе и своим коням пропитание сами. Мотивировка Петра Великого причин и целей похода уместилась в одно фразе: «дабы принудить короля свейского к доброму миру». Манифест подчёркивал мысль о том, что России именно в этот период активизирует свои действия по поиску заключения мирного договора со Швецией.
Русская разведка (штабс-квартирмейстер Маслов) оценивала силы противника в 11000—12000 человек. Данные разведки на этот раз были довольно точными.
Финская армия под командованием генерал-лейтенанта Любеккера, согласно К.О.Нурденсвану, к этому времени состояла из следующих частей:
Кавалерия: шведско-финский полк дворянского знамени (адельсфан) —командующий ротмистр К. Мунк – 70 человек; Обусско-Бьёрнеборгский кавалерийский полк – полковник Р.Ю. де ла Барр (1000 человек); Нюландско-Тавастхюстский кавалерийский полк – полковник А. Е. Рамсей (1000 человек); Карельский кавалерийский полк – полковник Ю. Даниэльсон (1000 человек); Ингерманландский вербованный драгунский полк – полковник Х. О. Бракель (600 человек) и Карельский ланд-драгунский эскадрон – полковник Б. Ф. Цёге (313 человек).
Пехота: Обусский полк – полковник О.Р. фон Укскиль (1025 человек); Бьёрнеборгский полк – полковник – О.Р. фон Эссен (1025 человек); Тавастхюстский полк – полковник О.Ю. фон Майдель (1025 человек); Выборгский полк – полковник А.Ф. фон Крусеншерна (1000 человек); Саволакский полк – полковник Ю. Штирншантц (1033 человека); Нюландский полк – генерал-майор К. Г. Армфельт (1025 человек); Эстерботтенский полк – полковник Е.Ю, фон Фитингоф (1200 человек) и Финский вербованный батальон – полковник Б. Ю. Юленстрём (420 человек).
Итого: 11736 человек (7753 пехотинца, 3983 кавалериста) при 12 орудиях.
Силы противников, как мы видим, в начале кампании были примерно равными.
Моральное состояние финской армии можно с уверенностью определить как неудовлетворительное. Дело в том, что фактически все её полки после Полтавской катастрофы были сформированы заново из солдат дополнительных частей и новобранцев, чей моральный дух был слишком подавлен. Чрезвычайно тяжело переносилась также утрата Выборга и Кексхольма, а также отсутствие возможности получить реальные подкрепления из Швеции. У подавляющего большинства финнов сложилось впечатление, что их бросили на произвол судьбы. В подобной ситуации осторожный Любеккер принял единственно правильное решение – эвакуировать население из прибрежных районов вглубь страны и уничтожить все запасы провианта и фуража на пути движения противника. Таким методом успешно пользовались русские на пути следования шведской армии Карла XII по русской территории в 1708—1709 г.г.
Русский экспедиционный корпус выступил в поход довольно поздно – 17 июля 1712 года. Обремененный большим провиантским и амуниционным обозом, он двигался со скоростью 10—11 километров в сутки и лишь к 30 июля вошёл в Выборг. Отсюда, вглубь Финляндии, уже до его прихода, был выслан разведывательный отряд казаков в 50 человек. В скоротечной схватке им удалось захватить врасплох одну шведскую заставу и взять пленных. На допросе пленные показали, что основные силы шведов в составе 4 кавалерийских и 7 пехотных полков стояли у Векелакса, имея продовольственный магазин в Лапитреске. Сам город занимал отряд в 5000 человек, около 2000 солдат находились в Кюписе и примерно такое же количество – в Обу. При этом, согласно показаниям пленных, из Обу для соединения с главными силами спешила колонна в 2000 человек. Другому казачьему отряду удалось узнать, что Саволакс занят отрядом полковника Штирншантца в составе трёх пехотных полков и Карельского ланд-драгунского эскадрона.
Для выяснения намерений противника Апраксин принял решение выслать к Векелаксу казачий отряд Полтева в 500 сабель.
Обеспокоеный действиями русских, Любеккер отвел свои войска за реку Сумму. Тем временем в Выборг прибыло три пехотных полка генерал-майора И.И.Бутурлина. Апраксин переформировал сухопутный отряд, включив в его состав Галицкий пехотный полк и первые батальоны гренадерского полка Халларта, Московского, Вологодского и Казанского пехотных полков и роты Азовского пехотного полка. Вторые батальоны были оставлены для усиления гарнизона Выборга. В результате силы корпуса возросли до 22 пехотных батальонов и 2 рот (10000—11000 человек), 4 драгунских полков и одного эскадрона (3500—4000 человек).
Корпусу Апраксина «ассистировал» галерный флот.
15 августа 1712 года военные действия сухопутных частей развернулись на дороге Выборг-Лапетранд-Векелакс. Уже после двух дней марша Апраксин жаловался царю на Любеккера, применившего по отношению к наступавшему противнику тактику, которую Пётр использовал в отношении Карла XII во время его русского похода 1708—1709 г.г.: «И как уведал о приходе нашем… жилища все сжёг и жителей, которые в выше упомянутом местечке (Векелаксе – прим. авт.) жили, выгнал в Гельсингфорс и в другие места… И хлебмолоченный от мужиков забрал к себе в лагерь, а сжатый в гумнах и на полях и фураж, где могли сыскать, сжег без остатку, и мужиков всех выслал в глубь земли, и разослал такие указы: ежели кто пойман будет, – казнят смертию».
Таким образом, русской армии пришлось вести войну на незнакомой, разорённой местности, не имея точных сведений о намерениях противника. Любеккер, умело уклоняясь от сражения, постепенно отвёл свои войска к реке Ярви-Коска, где и занял укрепленную позицию на правом берегу реки Обуфорс, преграждая русским путь из Хекфорса к деревне Аньяла и Обу. В центре эта позиция представляла собой пологую возвышенность в форме полукруга. Здесь был возведен ретраншемент и установлена артиллерия. Правым флангом эта позиция упиралась в море, подход со стороны которого из-за скалистых берегов был невозможен. Левый фланг упирался в деревню Обуфорс. Фланги также были усилены артиллерийскими батареями.
Русские войска после взятия Векелакса медленно шли вперед. 14 сентября авангард подошел к Ярви-Коска и обнаружил там противника, занявшего неплохо укреплённые позиции. При таком положении предстояло атаковать неприятеля в лоб, а это было чревато не только тяжелыми потерями, но и возможным поражением. Тогда Апраксин решил провести демонстрацию против основной позиции шведов, а казачий отряд атамана Черского послал искать брод через реку. Генерал-адмирал искал пути обхода для возможной атаки шведов с фланга.
Увы, это предприятие завершилось поражением разведывательного отряда. При попытке переправиться через реку казаки были подвергнуты обстрелу со стороны Тавастхюстского полка и вынуждены были отойти на исходные позиции. Поскольку возможности для наступления и продовольственные запасы были исчерпаны, Апраксин приказал корпусу отступить к Выборгу. Задача, поставленная царём перед своими генералами по овладению Обу, выполнена не была. Неудачное начало со всей очевидностью показало, что без тесной координации действий армии и флота завоевание прибрежной полосы Финляндии не возможно.
Несколько лучше действовал русский галерный флот под командованием контр-адмирала (шаутбенахта) И.Ф.Боциса. 10—20 августа его отряд в составе 12 скампавей[10 - Скампавея – быстроходная галера облегчённого типа с 12—15 пар вёсел, 2 мачтами для парусов и 1—2 пушками малого калибра. Вмещала до 150 солдат.] и 12 бригантин, выйдя из Выборга и прорвавшись сквозь блокадную линию шведов, прошел вдоль ингерманландского берега сперва к Варивалдаю, а затем к устью р. Луга. 13 августа морской отряд скрытно от шведов направился к острову Лавенсари, а оттуда – к острову Сомерсу и далее в финские шхеры. Здесь 17 августа русские захватили 4-пушечный шведский бот и шлюпку. 20 августа отряд недалеко от местечка Вегелакс, что западнее Фридрихсхамна, с бою взял шведскую 25-пушечную шняву «Крефт» и два 4-пушечных бота, захватив экипажи этих кораблей в числе 136 человек в плен. Захваченные суда снабдили 36 пушками и включили в русский отряд.
Скампавея с гравюры Г. де Вита, 1714 год.
В целом этот первый поход 1712 года вглубь Финляндии завершился с небольшими потерями: в период с июля по сентябрь 1712 года русские войска потеряли 3 человек убитыми, 7 – ранеными, 6 – пропавшими без вести, 41 – умершими от болезней и 146 – дезертировавшими[11 - Куда отправились русские дезертиры, сказать трудно. Кроме возможности раствориться среди финского населения, других путей у них, кажется, не было.]. Большими успехами русские похвастать, однако, не могли, но был приобретён ценный опыт: для успешного наступления нужна более активная поддержка с моря и наличие крупных сухопутных сил.
В преддверии неизбежных встреч со шведами на море в течение всего 1712 и весны 1713 года шла интенсивная работа по постройке галерных судов и подготовка к морским операциям уже имевшихся линейных кораблей. Блестящая стратегическая мысль Петра, деятельно осуществлявшаяся Апраксиным, Боцисом и другими, заключалась в том, что главная роль в предстоящих военных действиях выпадет не на долю большого флота – линейных кораблей и фрегатов, а весельных и парусных галер, полугалер, бригантин и прочих судов, для которых возможно маневрирование в мелководных финских и шведских шхерах.
Это не значило, что Пётр в это время прекратил постройку и покупку новых линейных кораблей. Царь знал, что без них на просторах Балтики рано или поздно тоже не обойтись, потому что шведский флот был пока еще очень силен. Но для такой операции, как завоевание Финляндии, линейный флот не был так непосредственно востребован, как флот галерный, «армейский».
Личное присутствие царя в Петербурге, его неуёмная и кипучая энергия, сделали свое дело. И результаты оказались впечатляющими: к весне 1713 года было построено около 200 судов «малого» флота. К весне 1713 года русская армия и флот, как никогда, были готовы к походу в Финляндию.
Корпус, предназначенный для ведения боевых действий, состоял теперь из следующих частей:
Пехота: 1-й батальон лейб-гвардии Преображенского полка, Первый и Второй гренадерские, Троицкий, Выборгский, Нижегородский, Воронежский, Сибирский, Архангелогородский, Великолуцкий, Московский, Галицкий, Петербургский, Псковский, Азовский, Казанский, Рязанский, Островского, Толбухина полки и батальон полка Стрешнева. Всего, согласно Мышлаевскому, 36 батальонов или 29810 человек.
Кавалерия: Генеральный эсвадрон А.Д.Меншикова, Вятский, Луцкий, Вологодский и Нарвский драгунские полки. Всего 21 эскадрон или 4500 человек.
Непосредственно для участия в десантных операциях со стороны моря выделялось 18690 человек и 200 гребных судов. Командовавший кавалерией генерал-майор князь А.Г.Волконский получил приказ двигаться по суше, прикрывая обозы и артиллерию. Перед походом кавалерийские части были пополнены до полного штата и в качестве подкрепления получили два пехотных батальона. Таким образом, силы сухопутного отряда возросли на 1751 пехотинца и 5164 драгун, не считая казаков. По разным данным численность последних колебалась от 3 до 7 тыс. человек.
Десант – пехотные полки – были посажены на суда в Петербурге. Главной целью похода был намечен Хельсингфорс. Галеры с десантом на борту двинулись в поход из Петербурга 26 апреля 1713 года. Всего в походе приняли участие 3 полугалеры, 60 скампавей, 30 бригов, 60 карбусов и 50 лодок. За ними последовали два прама и два бомбардирских галиота.
Гребной флот, порученный Ф.М.Апраксину, царь разделил на три эскадры, одной из них – авангардией – командовал сам Пётр, а арьергардией – галерный шаутбенахт И. Боцис. До Берёзовых островов они двигались под прикрытием «большого» – корабельного – флота, которым командовал вице-адмирал Корнелий Крюйс (6 кораблей, 1 бомбардирский бот и 2 шнявы[12 - По данным Ф. Веселаго, у Крюйса было 7 кораблей, 4 фрегата и 2 шнявы.]). Флот крейсировал на линии архипелаг Бъёркё – остров Сескар.
8/19 мая галерный флот подошел к Хельсингфорсу. Для разведки был выслан отряд полковника Г. Чернышева в составе 6 скампавей. Он вступил в артиллерийскую перестрелку с артиллерией крепости, продолжавшуюся всю последующую ночь. Ф. Веселаго пишет, что бой был очень кровопролитный, на русских галерах была такая большая потеря гребцов, что они с трудом могли отходить от неприятельских батарей для замены убитых людей новыми. Это было неприятным сюрпризом для русского командования, не ожидавшего, что Хельсингфорс был заранее подготовлен к обороне. На скалистых берегах и узких проходах шведы установили три артиллерийских батареи, а руководство обороной было возложено на генерал-майора К.Г.Армфельта. В его распоряжении, согласно Х. Уддгрену, находились Выборский и Нюландский пехотные полки, а так же часть Ингерманландского вербованного драгунского полка.
Как бы то ни было, шведский историк Х. Уддгрен высоко оценил план задуманной Петром операции. Он писал: «Нельзя не признать всей продуманности спланированной русским командованием операции. Генерал Любеккер, с его небольшими силами не мог прикрыть всё побережье и уповал лишь на помощь королевского флота. Слабость финской армии заключалась в отсутствии поддержки из Швеции. Полки редели от дезертиров, а местное население, собранное в ополчение было сильно лишь на бумаге, так как отсутствовали необходимые запасы оружия… Вообще Любеккеру следовало свести свои действия к угрозе русским коммуникациям. В целом его нельзя упрекнуть в незнании обстановки и не в продуманности принятых решений».
Вечером на галере генерал-адмирала Апраксина был собран военный совет, на котором было принято решение нанести по позициям шведов комбинированный удар: галеры под командованием Апраксина и Боциса должны были атаковать город с юго-запада, а авангард под командованием царя – с северо-востока. С царской эскадры должен был быть высажен десант под командованием майора Волконского в составе полков Островского, Толбухина и сводного отряда гренадер из 100 человек. Задача десанта заключалась в овладении батареями и укреплениями шведов на восточной стороне. Одновременно готовились к высадке пехотные части с галер Апраксина и Боциса. Они должны были приковать к себе внимание противника с фронта и дать группировке Волконского с наименьшими потерями овладеть укреплениями противника.
Высаженные на берег полки были развернуты в две линии: в первой линии находились Петербургский, Великолуцкий, Воронежский, Рязанский, Архангелогородский, 1-й и 2-й гренадерские полки (14 батальонов), во второй линии – по одному батальону из Сибирского, Казанского, Галицкого и Московского полков, а также Псковский и Азовский пехотные полки в полном составе (по 2 батальона в каждом), 8 батальонов, а всего – 22 батальона.
Наступление началось в 3 часа утра; после бомбардировки в городе вспыхнул пожар. Когда русский десант успешно высадился на западном берегу залива Сёдрахамн, шведский гарнизон, видя невозможность сопротивляться, оставил город. При вступлении в него русских он оказался пуст. Шведы, не приняв боя, ушли на соединение с главными силами.
Уддгрен так комментирует этот шаг Армфельта: «Возможность столкновения с превосходящими силами противника была полностью исключена. Как только Армфельт узнал о присутствии на эскадре царя и о превосходящих почти в десять раз силах русских, он, не раздумывая ни минуты, принял решение оставить Хельсингфорс и отойти на соединение с главными силами. К тому же он был смущен отсутствием эскадры Ватранга».
Перед отступлением шведы подожгли город.
Не решаясь оставлять противника у себя в тылу, русский гребной флот 10 мая 1713 года отправился к Борго (ныне Порво). На 2/13 мая была назначена высадка десанта у Борго, но шведы, верные своей тактике, опять не стали вступать с противником в бой, оставили Борго и отступили к деревне Мянтселя, предварительно разрушив по дороге все мосты через реки и уничтожив гати.
«Итак, русским, вследствие уклонения противника, не удалось уничтожить его живую силу. Зато отступление шведов вглубь страны лишало их возможности взаимодействовать со своим флотом. Но это еще не разрывало сообщение шведского флота с побережьем», – отмечал советский историк Б.С.Тельпуховский. Действительно, вскоре в Хельсингфорс, вслед за русскими, покинувшими рейд, вошла шведская эскадра контр-адмирала Лилье, что позволило шведам восстановить связь с сухопутной армией. Факт возвращения шведского флота в Хельсингфорс обнаружил отряд гребных судов всё того же Боциса.
Тельпуховский пишет: «Обнаружив на Хельсингфорском рейде восемь кораблей, один фрегат, одну шхуну и несколько частновладельческих транспортов, Боцис решил их атаковать. В результате атаки было сожжено пять транспортов и захвачено 22 пленных. Эта атака имела большой моральный эффект. Совместными действиями корабельного и галерного флотов русские уже намечали полное уничтожение шведского флота на рейде. Но эта операция не была проведена: корабельный флот, отвлекшись случайными целями, упустил время, а шведский флот, видя угрожающую ему опасность, оставил Хельсингфорс и без боя ушел в Тверминне. Русские вторично и на этот раз уже прочно заняли Хельсингфорс, лишив этим самым шведский флот опорной базы на Финском заливе… Овладение Хельсингфорсом, а затем и Ревелем, расположенным на противоположной стороне Финского залива, создавало мощную преграду на подступах к Петербургу и вместе с тем давало широкие возможности русским подготовить операции на Балтийском море».
Отряды А. Г. Волконского, шедшие из Выборга, и М.М.Голицына, высадившиеся с судов, соединились у Форсбю лишь 28 июня. Состав финлядского корпуса князя М.М.Голицына окончательно определился только к 1 июня. Данные по составу и численности его частей приведены в таблице Мышлаевского: