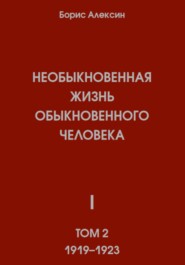 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Всё это военком говорил, пока они спускались по неширокой, выбитой в сопке проезжей дороге, которая проходила немного ниже казарм и шла из села вглубь пади к реке Майхэ, огибая сопку.
Спустившись вниз и миновав пару китайских лавчонок, они подошли к тропинке, идущей через небольшой пустырь к станции. Эта тропка начиналась почти прямо от ворот довольно большого дома, окружённого деревьями. Военком, усмехнувшись, показал на эти ворота и спросил:
– Что, Яков Матвеевич, дома своего не узнал?
Алёшкин с удивлением оглянулся: он действительно не узнал этого дома, а то был именно дом Писнова, в котором он получил квартиру. Он смутился, что, мол, обо мне подумает военком, вот так командир – своего жилья узнать не может!
Однако тот больше ничего не сказал. Войдя в здание небольшого деревянного вокзала, он купил билеты. Вскоре подошёл маленький паровоз «овечка», тащивший за собой несколько серых вагонов четвёртого класса. На двух из них висела табличка с надписью на русском и китайском языках: «Для китайцев». На перроне собралось много народа, к приходу поезда из села подъезжали подводы, и торопливо шли люди. Движение на станции и в проснувшемся селе Якову Матвеевичу, привыкшему за последние годы к жизни в тихой, уединённой бухте, показалось большим и шумным.
Часов около двух дня военком ОЛУВК комбат Плещеев и начальник штаба комроты Алёшкин входили в кабинет начальника Приморского военного округа командарма Уборевича.
Командарм – невысокий, плотный человек лет сорока пяти. Его седоватые, стриженные под ёжика волосы стояли твёрдой щетинкой, образуя ровные залысины по обеим сторонам большого выпуклого лба. Аккуратно подстриженные усики и пенсне на носу делали его похожим на какого-то учителя гимназии или реального училища, а уж никак не на боевого командарма – участника и одного из организаторов знаменитых разгромов белогвардейских и японских генералов под Волочаевкой, Спасском, да и, наконец, здесь, во Владивостоке.
Правда, Яков Матвеевич о подвигах Уборевича, да и вообще о нём самом в то время ещё ничего не знал. Он чувствовал только одно – в настоящий момент решается его судьба: или он будет допущен к службе в военкомате, то есть в Красной армии, ему поверят, и он получит какой-то вес и положение в этом новом советском обществе, или нет. Если поверят, то он постарается своей работой это доверие оправдать. Если же нет, ему придётся вернуться на заимку, вести дальнейшее полубатрацкое существование, ожидая разрешения на выезд в Верхнеудинск. Наконец, в самом худшем случае его могут оторвать от семьи и, как других белых офицеров, отправить куда-нибудь в ссылку… Ему было над чем задуматься.
В кабинет их ввёл высокий, с отличной выправкой командир в звании комполка, он же принёс и положил перед Уборевичем папку с бумагами. Командарм открыл папку, и Яков Матвеевич заметил, что на самом верху лежал его послужной список. Отодвинув его в сторону, Уборевич достал лежащий под ним – это был послужной список Плещеева. Он состоял из нескольких листов бумаги и был просмотрен за какие-нибудь две минуты. Затем Уборевич взял послужной список Алёшкина. В отличие от предыдущего, он был объёмней и содержал в себе много страниц и различной величины бумажек, вшитых в папку. Уборевич внимательно прочитал список и все отдельные бумажки и документы, в которых кое-какие места были подчёркнуты красным карандашом. На чтение списка Алёшкина ушло не менее 15 минут.
Само собой разумеется, что время это обоим ожидавшим показалось нескончаемо длинным. Они продолжали стоять в двух шагах от стола командующего по стойке смирно. Напряжение было так велико, что они оба вздрогнули от неожиданности, когда вдруг услышали, как негромким сипловатым голосом Уборевич спросил:
– Товарищ Алёшкин, так вы были у Колчака или нет? Что-то я из этих бумажек ничего понять не могу…
Яков Матвеевич, собравшись с духом, постарался как можно короче и понятнее изложить свою историю. Уборевич, ни разу не перебив рассказчика, внимательно его выслушал. Когда тот закончил, командарм взглянул на него и довольно сурово заметил:
– Я надеюсь, что вы рассказали правду, хотя она несколько невероятна. Значит, в боях против Красной армии вы никогда не участвовали?
– Не участвовал! – твёрдо ответил Алёшкин.
– И ни в каких карательных отрядах против партизан и гражданского населения тоже не выступали?
– Не выступал! – также твёрдо и уверенно подтвердил он.
– Семья у вас большая? – неожиданно уже совсем другим тоном спросил Уборевич.
– Жена, трое детей и сын от первого брака, – ответил Яков.
– А где первая жена?
– Умерла в 1916 году. Сын находится где-то у её родственников. Думаю, теперь, когда в России наконец установился порядок и войны закончились, попробовать поискать его.
– Ну что же, ищите. Сейчас много их, бедолаг, потерявших семьи, по стране мается. Желаю удачи! Да, а кто ваша жена?
– Сельская учительница.
– Ну что же, – повернулся командарм к Плещееву, – я думаю, что товарища
Алёшкина можно утвердить вашим помощником по штабной работе. По документам видно, что в Германскую войну он воевал храбро и в военном отношении достаточно грамотный человек. А как ваше мнение?
– Товарищ командующий, я знаю Алёшкина около двух лет. Он был связным между отрядами, полагаю, что он будет полезен Красной армии, и поэтому прошу утвердить его в должности начальника штаба Ольгинского уездного военного комиссариата.
– Хорошо, – сказал Уборевич, достал из той же папки заготовленный приказ,
подписывая его, закончил, – утвердим. Надеюсь, что не ошибёмся, ну а от вас, товарищ Алёшкин, будет зависеть оправдание нашего доверия честной работой. Бумаги и приказ отправим с нарочным, а сейчас немедленно приступайте к работе. Первым вашим большим делом будет проведение призыва родившихся в 1901–1902 годах, а также и всех возрастов, ранее не служивших. Для вас, товарищ Алёшкин, это будет как бы экзамен. Можете идти.
Поднявшись из-за стола, командарм крепко пожал руки вновь испечённых начальников Ольгинского уездного военкомата.
На следующий день Плещеев подписал распоряжение. Начальник финансового отдела военкомата выдал Якову Матвеевичу порядочную сумму на обзаведение и перевозку семьи. Военком разрешил ему немедленно выехать на заимку за семьёй. Однако, начав порученную работу по призыву, отправиться на заимку Алёшкину удалось только через три дня.
Выделив в распоряжение Якова Матвеевича пароконную подводу с ездовым, Плещеев приказал ему взять с собой для охраны трёх верховых красноармейцев. Сам Алёшкин ехал верхом на той лошади, на которой приехал с заимки. Провожая своего помощника, Плещеев рекомендовал быть осторожным:
– Тут по сопкам ещё много всяких недобитков болтается, да и свежие из-за границы почти каждый день прибывают. Пограничной-то службы у нас нет почти никакой. За командирами Красной армии они сейчас охотятся. Так что держи ухо востро, а то оставишь меня без начальника штаба, – добавил он шутя.
Узнав о поездке соседа, Надеждин, с которым они уже успели познакомиться, зашёл к нему и снабдил его на всякий случай парой лимонок (гранат).
Так, вооружённый до зубов, как смеялся Яков Матвеевич, в сопровождении военного эскорта и появился он на заимке после почти недельного отсутствия.
Там уже все были в волнении. Особенно переживала Анна Николаевна, она даже собиралась сама ехать в Шкотово, чтобы выяснить судьбу мужа. Как обычно в таких случаях, ей мерещились самые различные ужасы, и, конечно, прежде всего она думала, что Яшу арестовали, как бывшего офицера, может быть, и выслали куда-нибудь, а она ничего не знает и не может ничем ему помочь.
Пётр Сергеевич успокаивал её, как мог, заверял, что он сам через два-три дня поедет в Шкотово и всё узнает, а пока нужно набраться терпения и ждать. Успокаивая родственницу, он, откровенно говоря, сам далеко не был так спокоен, как хотел казаться. Ведь как-никак его двоюродный братец всё-таки числился в белых, и пусть он на самом деле там и не служил, но ведь это ещё нужно доказать, а доказать не так-то просто. Единственный свидетель этого – Щукин находится где-то в Харбине, куда добраться сейчас нельзя. Кроме того, неизвестно ещё, уцелел ли он.
Но вот однажды утром явился сам виновник волнения в новой и довольно непривычной военной форме, в сопровождении нескольких вооружённых солдат, видимо, его подчиненных.
Встречая брата, Пётр Сергеевич, даже немного позавидовал ему, а описать радость Анны Николаевны и его старших детей при виде мужа и отца невозможно. Времени терять было нельзя, поэтому быстро собрав пожитки, отказавшись от тарантаса, предлагаемого братом, дав отдохнуть часа два лошадям, после обеда Яков Матвеевич с семейством тронулся в обратный путь. Верховую лошадь, на которой он уже ездил в Шкотово, он оставил пока у себя.
Часов около трёх дня кортеж, во главе которого ехал верхом Яков, держа перед собой повизгивавшего от восторга Борю, с телегой, нагруженной вещами, в которой сидели его жена с Люсей и маленьким Женей, находившейся в середине, и тремя верховыми красноармейцами, замыкавшими его, следовал по узенькой просёлочной дороге, соединявшей заимку с внешним миром.
По неровной каменистой дороге быстро ехать было нельзя, но путники полагали, что часам к восьми вечера они успеют добраться до Шкотово. Можно было бы, конечно, подождать и до следующего утра, как и предлагал сделать Пётр, но Яков, помня о срочности полученного задания и мысленно уже поглощённый новой работой, с семейными делами торопился покончить как можно скорее. Побуждал его к отъезду и тот холодок, который в последнее время всё ощутимее возникал между братьями, и, как нам кажется, причиной его был всё же материальный вопрос.
Вероятно, Пётр Сергеевич опасался, что Яков, проработавший на заимке более двух лет, может потребовать за свой труд вознаграждение, а он считал, что уже то, что в своё время помог ему и его семье скрыться от белогвардейцев, является вполне достаточным. Был ли согласен с этим Яков, мы сейчас определить не берёмся, однако известно, что после того, как он уехал с заимки вместе с семьёй, получив с собой несколько добрых напутствий и более ничего, Яков и его жена чувствовали себя обиженными.
До Шкотово доехали без приключений, хотя добрались только к двум часам ночи. Красноармейцы помогли перетащить вещи и сонных ребятишек в дом. Семейство Алёшкиных, разместившись на кроватях и на полу, заснуло в своей новой квартире.
Дня три ещё Яков Матвеевич занимался устройством семьи, приобретая и изготовляя своими силами самую необходимую обстановку и хозяйственные предметы. Конечно, всё это было очень примитивным. Например, сооружение, заменявшее комод, состояло из нескольких фанерных ящиков, поставленных друг на друга и накрытых старым покрывалом. Таким же примитивным образом при помощи щитов из досок была сделана из одной солдатской кровати двуспальная. Люся спала на второй кровати, для маленьких приобрели брезентовые раскладушки. Вместо вёдер использовались большие жестяные четырёхугольные банки из-под так называемого китайского сала, к которым приделали из толстой проволоки ручки. Такой же примитивной была и остальная хозяйственная утварь.
Мы довольно подробно останавливаемся на этих особенностях оборудования жилья Алёшкиных потому, что впоследствии они очень поразили и удивили их старшего сына, который подобной мебели и хозяйственных вещей до этого не видел.
Закончив самые необходимые домашние дела, Яков Матвеевич передал все дальнейшие заботы о семье в руки жены, а сам с головой окунулся в свою новую службу. Используя знания, приобретённые в школе прапорщиков, и опыт, полученный за время пребывания на фронте, он очень скоро овладел необходимыми навыками работы военкомата и стал одной из главных фигур этого учреждения.
С начала 1923 года в Шкотово открылись две школы 1-ой ступени и одна 2-ой. С преподавательским составом было трудно, поэтому Анна Николаевна в начале января тоже приступила к работе. Она стала учительницей во второй школе 1-й ступени, находившейся почти в центре села. В этой же школе в третьем классе стала учиться и Люся, а сынишки оставались дома одни, за ними немного присматривала жена Писнова.
Более трёх месяцев Яков Матвеевич работал с таким напряжением, что захватывал не только вечера, но и значительную часть ночи. Ему часто приходилось выезжать в волости, организовывая ход призыва. Он сумел заставить подчинённый ему персонал отнестись к делу призыва с должным вниманием и энергией. Да и сам военком Плещеев принимал в этой работе большое участие. Благодаря этому призыв по уезду закончили досрочно и без эксцессов. В результате работу Ольгинского военного комиссариата отметили приказом по округу, многие служащие его, в том числе и Алёшкин, получили благодарности и денежные поощрения. Экзамен Яковом Алёшкиным был сдан!
Кроме работы в военкомате, Якову Матвеевичу вместе с остальным личным составом и работниками ГПУ за это время несколько раз пришлось участвовать в отражении налётов различных бандитов и хунхузов как на село Шкотово, так и на близлежащие селения. Руководя порученным ему отрядом красноармейцев, он показал себя не только храбрым, но и умелым командиром, чем ещё больше укрепил свой авторитет.
Безупречным отношением к службе он завоевал хорошее отношение к себе не только со стороны Плещеева и работников военкомата, но и представителей других шкотовских учреждений, и прежде всего, со стороны ГПУ, чему немало способствовали его дружеские отношения с Надеждиным.
Вскоре после приезда семьи Алёшкиных Надеждин привёз и свою жену. Она стала работать в той же школе, в которой служила и Анна Николаевна. Соседи подружились, и это, конечно, отразилось на взаимоотношениях Алёшкиных с остальными шкотовцами. Надеждин оказался весёлым, общительным человеком, любящим детей, а так как своих у него не было, то он при каждом удобном случае забавлял и развлекал соседских.
За работой и домашними хлопотами супруги Алёшкины почти и не заметили, как в Приморье пришла весна: сопки зазеленели, залив очистился ото льда, на базаре и в китайских лавчонках стали появляться первые овощи.
После окончания призыва работы у Якова Матвеевича убавилось, и он выбрал время для того, чтобы восстановить связь с Марией Александровной Пигутой и выяснить судьбу своего старшего сына. Правда, он уже пытался это сделать сразу по приезде в Шкотово, но на письма, отправленные им в декабре 1922 года в Темников на имя Пигуты, ответа не получил. В феврале 1923 года они с Анной Николаевной послали письма на имя Маргариты Макаровны Армаш и Анны Никифоровны Шалиной, в конце марта ответы пришли на оба письма почти одновременно. Обе сообщали о смерти Марии Александровны в 1919 году, о том, что после этого Боря жил у Стасевичей, а когда последние собрались уезжать в Польшу, он был отправлен в Кинешму к Дмитрию Болеславовичу Пигуте, где, по-видимому, сейчас и живёт. Маргарита Макаровна сообщила и адрес Дмитрия Болеславовича.
После получения этих известий Алёшкин немедленно послал телеграмму Дмитрию Болеславовичу Пигуте, а получив от него подтверждение того, что Борис действительно живёт у него, начал хлопотать о перевозке сына к себе. Это оказалось не очень сложно. В тот период времени семьи многих военнослужащих были раскиданы по всей стране, и Наркомвоенмором (Народный комиссариат по военным и морским делам – прим. ред.) был издан приказ, по которому каждый военнослужащий имел право выслать своему найденному родственнику воинские проездные документы. Это и сделал Яков Матвеевич.
Чтобы обеспечить сыну более или менее сносное путешествие, которое, по его расчётам, должно продлиться около месяца, он выслал ему и деньги – почти всю сумму, полученную в виде наградных за успешно проведённый призыв, 15 рублей золотом, ведь на Дальнем Востоке в то время все расчёты производились на золото. Что произошло дальше, мы уже знаем.
Томительно тянулись дни ожидания ответа из Кинешмы. Но вот наконец пришла телеграмма, извещавшая о выезде Бориса, и тут дни ожидания потянулись ещё медленнее и, по существу, перевернули весь домашний уклад семьи Алёшкиных.
Высчитав примерную дату приезда сына, Яков Матвеевич и Анна Николаевна около недели ежедневно дежурили на станции Шкотово, выходя к каждому прибывающему поезду. Кроме того, всем знакомым, бывавшим в командировках во Владивостоке и на других железнодорожных станциях, Яков описал Бориса, каким он себе его представлял, и просил их помочь мальчишке, если они его случайно встретят. Как мы увидим, такая забота была нелишней, и один из знакомых, а именно Надеждин, оказал Боре помощь в самый необходимый момент.
Глава шестая
Разумеется, всё описанное нами в предыдущей главе было неизвестно вихрастому пареньку, который в настоящий момент ехал в поезде, следовавшем из Кинешмы в Москву, и во все глаза смотрел на проносящиеся мимо густые приволжские леса, начавшие зеленеть луга и пашни, различные железнодорожные домики и сараи. Внезапно появлявшиеся серенькие деревеньки также внезапно исчезали где-то за хвостом длинного, извивавшегося, как змея, поезда. Изредка встречались большие станции, со множеством путей и стрелок, со стоящими на этих путях шипящими и фыркающими паром паровозами и самыми разнообразными вагонами: товарными и пассажирскими, целыми и разбитыми так, что оставалась только одна металлическая основа, представлявшая как бы скелет вагона. Все они стояли или двигались в разных направлениях.
Всюду были люди, куда-то спешившие или занятые каким-нибудь делом, или даже просто прогуливавшиеся по перронам станций, мимо которых поезд проходил, иногда даже не останавливаясь.
Вся эта красочная пёстрая картина железнодорожной жизни мелькала перед глазами юного путешественника и была так привлекательна и интересна, что, кажется, так вот ехать и смотреть в окно вагона можно было бы всю жизнь.
Этот вихрастый паренёк и был наш герой – Борис Алёшкин, едущий по воинскому билету к своему отцу, служившему где-то в далёком, неизвестном Шкотово, в каком-то странном учреждении с немного смешным названием «ОЛУВК».
Дорога до Москвы прошла без приключений. В 1923 году в центре России поезда ходили более или менее регулярно и аккуратно. На Северный (или Ярославский) вокзал кинешемский поезд прибыл вовремя, в 8 часов вечера. Для того, чтобы ехать дальше, Борису нужно было перейти на Казанский вокзал, так как поезда, следующие в Сибирь, в то время отправлялись с Казанского вокзала. У нашего путешественника из багажа, кроме старой корзинки, с которой он начал свои странствования ещё с Николо-Берёзовца, побывал в Темникове и Кинешме, и в которой находились его учебники, книги, тетради, альбом с марками и небольшой запас белья, был ещё настоящий солдатский мешок, раздобытый в госпитале Анной Николаевной, содержавший в себе продукты, мыло и полотенце.
Перед самым отъездом Боре сшили новый костюм из чёрной полусуконной материи, обут он был в поношенные, но ещё совсем целые сапоги дяди Мити, а на голове имел серую кепку. С внутренней стороны гимнастёрки тётка пришила ему потайной карман, в котором находились деньги и документы. По его представлению, денег на дорогу ему было дано очень много: пятьсот миллионов, то есть 500 рублей выпуска 1923 года. Рубль этот, как на нём было написано, приравнивался к одному миллиону всех ранее выпущенных дензнаков.
Документами, которые прятались в потайном кармане, были: 1. табель из школы, где по всем предметам имелись оценки, начинающиеся со слова «весьма», и где говорилось, что Борис Алёшкин переведён в четвёртый, последний класс 2-ой ступени; 2. свидетельство о рождении; 3. удостоверение, выданное Кинешемским уездным исполкомом, удостоверявшее личность Б. Алёшкина. На этом последнем, кроме подписей, печати и углового штампа, была приклеена гербовая марка.
В наружных карманах гимнастёрки находился железнодорожный билет и немного денег, могущих потребоваться на мелкие расходы.
Переход на Казанский вокзал Борис совершил без особого труда, следуя за группой других пассажиров. Ещё в Кинешме дядя Митя заботливо обвязал старую корзину толстой верёвкой так, что получилось нечто вроде ручки, за которую её было удобно нести. Вещевой мешок он надел, как ранец, так что этот переход оказался несравненно более лёгким, чем тот, который он совершал в обратном направлении два года тому назад. Конечно, надо учесть и то, что сам он повзрослел, сил у него прибавилось.
Оставив свои вещи под присмотром семьи попутчиков, ехавших куда-то под Челябинск, он вместе с главой этой семьи отправился выяснять, когда пойдёт нужный поезд и что нужно делать с билетом.
Оказалось, что в этот день рейсов на восток не будет. Следующий почтовый поезд будет только через день и пойдёт он до Иркутска. Самый ближайший поезд, товарно-пассажирский, будет в час ночи. Бывалые пассажиры и железнодорожники почему-то этот поезд называли «Пятьсот весёлый».
Не очень-то искушённые в путешествиях Борис и его спутник решили ехать на этом самом «весёлом», тем более что их билеты годились на него без всякого компостирования (это слово было новым в Борином лексиконе, что оно означало ни он, ни более взрослый его попутчик не знали). Однако они видели, что перед кассой, в которой производилось это компостирование, стояла такая длинная очередь, что им пришлось бы ждать, наверно, больше суток.
Поговорив со знающими людьми, они узнали, что этот так называемый Пятьсот весёлый состоит наполовину из теплушек и двигается очень медленно, но это их не испугало: хотя бы медленно, но они всё-таки будут ехать, а не торчать на Казанском вокзале, настолько забитом людьми и вещами, что найти свободное местечко было невозможно. До часа ночи они решили отдохнуть и, перекусив тем, что имелось у каждого в запасе, прикорнули на сваленных в груду мешках, узлах и Бориной корзине.
Мальчика разбудил толчок в спину и крик:
– Скорей, скорей, бежим, а то места не захватим!
Очнувшись, Борис заметил, что всё семейство его спутника уже на ногах, каждый держит предназначенную вещь. Поднялись и другие пассажиры. Вскочив как встрёпанный, он закинул за плечи мешок и, подхватив корзину, бросился в гущу толпы, куда устремились и его спутники. Образовалась невообразимая толчея и давка, то тут, то там раздавался истошный визг какой-нибудь чересчур сильно прижатой бабёнки, нецензурная ругань мужчины или вопль и испуганный плач ребёнка.
Конечно, жуликам и воришкам в такой толпе было настоящее раздолье, поэтому ко всем крикам иногда присоединялся и такой:
– Батюшки, обокрали!
Никто внимания на эти крики не обращал, все, что было сил, торопливо жались, толкались и лезли к трём огромным дверям, выходившим на перрон вокзала. Несколько железнодорожников и милиционеров первое время пытались установить порядок в этом движении, но, смятые толпой, махнули рукой и, прижавшись в сторонке к одной из наружных стен вокзала, только приговаривали:
– Ну и народ! Не люди, а звери! И куда их только чёрт тащит?!
Наш герой не успел опомниться, как подхваченный толпой и зажатый так, что у него перехватило дыхание, был вынесен к самым дверям.
Прижимая рукой карман с билетом и стараясь удержать в другой корзину, которая, как живая, прямо-таки вырывалась из рук, он двигался с толпой к выходу. В дверях его ещё раз крепко стиснуло, куда-то швырнуло в сторону, и он наконец очутился на перроне. Давление толпы ослабло. Он следовал за всеми бегущими вдоль длинного состава из двух десятков теплушек и нескольких вагонов четвёртого класса. Все торопились к этим вагонам, стараясь побыстрее влезть в них и занять какое-нибудь место.
Перрон скупо освещался несколькими электрическими фонарями, народу на нём было так много, что Боря потерял своих спутников. Зато нашёл другого – это был демобилизованный красноармеец в длинной кавалерийской шинели и старой фуражке с зелёным околышем. За плечами у него висел такой же мешок, как и у Бориса, а левая рука была завязана грязным бинтом. Увидев растерянно озиравшегося Бориса, который, потеряв попутчиков, остановился, не зная, что делать дальше, красноармеец спросил:
– Далеко едешь, малец?
– Далеко, аж на Дальний Восток.
– Ну, так мы с тобой попутчики, я тоже до самой Читы еду. Давай вместе держаться, веселее будет! – и не дожидаясь ответа мальчишки, добавил, – сядем-ка в эту теплушку. Чёрта ли в этих классных вагонах? В теплушке лучше будет, сейчас ведь не зима, не замёрзнем!
И они направились к ближайшему товарному вагону. В него уже тоже набралось много народа. Однако раненому демобилизованному красноармейцу, едущему вместе с парнишкой, удалось отвоевать место на верхних нарах около одного из открытых окошек.
Едва новые знакомые успели разместиться на захваченном месте, как какой-то бородач в старой рваной солдатской шинели и почти бесформенной папахе громко закричал:
– А ну, ребята, закрывайте двери. Нас тут и так полный комплект, как ещё батюшка царь указал: сорок человек и восемь лошадей. Хватит, а то тут столько набьётся, что и дыхнуть нечем будет.



