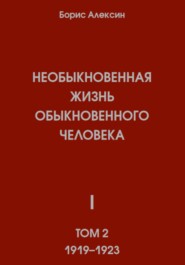 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
В письме он заботится о семье сына, ведь самым трудным в то время в промышленных районах страны, а Кинешма относилась именно к таким районам, являлся вопрос с продовольствием. И вот, отец старается хоть какими-нибудь продуктами помочь сыну.
1920 год в Рябково хотя и был ознаменован появлением нового члена в семье Пигуты – дочери, названной Елизаветой, принёсшей с собой радость, особенно молодой матери, но вместе с тем добавил множество дополнительных забот. В работе Болеслава Павловича наступивший год облегчения не принёс. Вот как о нём рассказывается в его письмах:
«Милый мой! У меня опять полная разруха по больнице, Смирнова и Колотушкина берут на завод, первого как специалиста кочегара, хотя он маляр, второго как плотника. Конечно, это всё фокусы Владимирова. Если Смирнов уйдёт, то думаю временно сдать Кузовкину заведование хозяйственной частью, но ни в коем случае не Грязнову. Было бы очень желательно, если бы заведующим остался Смирнов, но, должно быть, не удастся это сделать.
Картофеля твоего получилось очень мало, благодаря, конечно, Грязнову, – не более пяти-шести мешков. Я хотел послать его сегодня, едут трое, а дорога испортилась-то, до следующего раза. Моё здоровье по-прежнему, а после твоего отъезда было несколько дней так скверно, что несколько ночей подряд совсем не спал от боли, но теперь лучше. Если можешь достать соли (морской), то пришли, ванны облегчают. Как бы мне хотелось, чтоб ты приехал, очень мне всё опротивело.
Приехала ли Нюта и удачно ли съездила? Прощай пока, поцелуй Костю. Твой Б. Пигута 1/III–20 г.».
И следующее:
«…Посылаю тебе, мой дорогой, извещение от врачебного общества о разных взносах, которые мне нужно уплатить как за 1919, так и за 1920 гг. Я в нём разобраться не могу, потому что жалование в разное время получал разное, так что, какие следует делать вычеты, не знаю. Деньги возьми у Вас. Ник., он получит жалование, так ты, пожалуйста, расплатись. 100 руб. внеси на похороны Пятибокова и 200 р. в пользу оставшейся после него семьи. Жду тебя, поцелуй Костю и Нюту».
И третье:
«Дорогой мой! Сегодня едет в Кинешму Смирнов, который и захватит корову, так как прошлый раз не успел её взять. Не находим распоряжения на отпуск коровы, но Буткевич (директор завода) об этом знает и даже велел выдать один пуд сена на дорогу для коровы, пожалуйста, напомни ему об этом. Сена для твоей козы вчера немного увёз Грязнов, а сегодня столько же захватил Смирнов. Сено для больницы доставлено, 335 пудов 20 фунтов, как поступить с излишком, не знаю. Председатель Совета говорит, что его надо вернуть. Что касается строительного материала, то необходимо иметь распоряжения от кинешемских учреждений, тогда будет всё исполнено немедленно в порядке трудовой повинности. Все срубы здесь взяты на учет, и лесничий говорил, что можно из них сделать прируб для бани. Вообще, оба они охотно идут навстречу, только ждут распоряжений из Кинешмы, укажи, какие и какому учреждению нужны требования. <…> Если можешь, постарайся приехать поскорее, моё здоровье не завидно.
Твой Б. Пигута. Июль 1920 года».
Эти три письма показывают, как много думал старый доктор о своей работе, заботился о семье сына и очень мало, вскользь сообщал о своём здоровье.
Как эти письма, так и вообще поведение и разговоры Болеслава Павловича с сыном поражают тем, что он совершенно не вспоминает ни о своей старшей дочери, ни о детях младшей. Между тем, узнав о смерти своей первой жены, он в течение нескольких дней оформил брак с Зинаидой Михайловной Полонской, и, таким образом его дочь, хотя и родилась менее чем через три месяца после этого брака, всё же являлась законнорожденной.
Зная отношение Анны Николаевны Пигуты к родственникам мужа, можно было бы предполагать, что вторичная женитьба Болеслава Павловича оттолкнула бы её от него, но этого не произошло. Очевидно, она так глубоко ненавидела мать своего мужа, что, узнав о связи свёкра с молодой женщиной, даже обрадовалась: вот, мол, тебе, гордячка-аристократка, какой щелчок по носу! Ну и когда эта связь была формально узаконена, ей уже ничего не оставалось, как признать свою молодую свекровь.
Зинаида Михайловна действительно была всего на несколько лет старше своей невестки, но она обладала большой чуткостью, покладистостью характера и этим сумела завоевать её расположение. Кроме того, она не только сама ничего не требовала от Дмитрия Болеславовича, а, наоборот, при каждом удобном случае наталкивала отца на то, чтобы он оказал помощь сыну.
Она сумела немного укротить вспыльчивость, нетерпимость и довольно буйный нрав мужа. Благодаря её воздействию он стал лучше относиться к окружающим, и хотя конфликты его с начальством возникали довольно часто (уж слишком много было поводов для этого: отсутствовали самые нужные медикаменты, перевязочный материал, мыло, продукты питания для больных, медицинские работники, да мало ли ещё чего), но они не носили такой остроты, как прежде.
С рождением Лизы в эту семью пришло счастье. Оба они не чаяли в дочке души, и как ни казалось странным со стороны, несмотря на огромную разницу в возрасте, оба супруга, по-видимому, были по-настоящему влюблены друг в друга и в своего ребёнка.
Особенно удивлялась этому Анна Николаевна Пигута. За полтора десятка лет, которые она знала отца своего мужа, она успела хорошо изучить его характер и, может быть, справедливо считала его человеком хотя и преданным своему любимому делу, заботливо и внимательно лечившем больных, в обычных отношениях с окружающими – чёрствым, холодным, как правило, ставящим своё «я» выше всего на свете. И тут вдруг с ним произошла такая разительная перемена. Она не раз говорила мужу:
– Видишь, Дмитрий, как настоящая любовь может преобразить человека…
Казалось, в этой семье прочно и, возможно, ещё надолго поселилось счастье. Но это только казалось.
Болеслав Павлович Пигута был крепким, выносливым человеком. В течение сорока пяти лет он служил земским врачом, в должности, требовавшей огромного физического напряжения и нравственных сил. За всё время службы он ни разу не пользовался никаким отпуском, а до пожара Рябковского дома серьёзно и не болел. За свою жизнь он почти не употреблял крепких спиртных напитков, но, хотя и умеренно, курил до самой смерти. Не подорвали его железного здоровья и семейные трагедии, испытанные им: безвременная потеря старших сыновей, умерших в ранние детские годы, ссора со старшей дочерью, фактический развод с первой женой, с которой прожил более тридцати лет, смерть в самом цветущем возрасте младшей, когда-то самой любимой, дочери Нины.
Это были события, способные сломить любой организм. Однако всё это Болеслав Павлович перенёс стойко и в свои семьдесят с лишком лет готов был по-прежнему в любую погоду, любым способом, на любое расстояние спешить на зов больного…
В какой-то степени ослабили его здоровье и, главное, веру в себя, даже веру в необходимость и самого своего существования, те события, которые произошли в стране, которые изменили весь уклад его жизни, перевернули многие представления его о правопорядке, законности и целесообразности всего происходящего. Мы говорим о революции, и в особенности о той неразберихе и путанице, которая царила во всех отраслях хозяйства, в том числе и здравоохранении, в первые годы после неё.
Такая внезапная и резкая смена условий труда, материального положения старого врача и необходимость переворота в его самосознании не могли остаться без последствий.
У Болеслава Павловича стали появляться приступы грудной жабы (Стенокардия – прим. ред.), они были редки, проходили без какого-либо медикаментозного вмешательства, просто от пребывания некоторого времени в покое. Но он был квалифицированным врачом и знал, что первые симптомы этой болезни есть довольно грозное предостережение.
Женитьба и последующее появление ребёнка оказали на него благотворное, успокаивающее действие. Приступы жабы почти совсем прекратились. И даже перенесённая им в конце 1919 года дизентерия, которой он заразился во время борьбы с эпидемией этого заболевания, охватившей почти всё Поволжье, не вызвала новых приступов сердечных болей.
По-видимому, состояние того психического покоя, которое ему сумела создать его вторая жена, подействовало на него действительно хорошо. Но вот в конце лета 1919 года во время амбулаторного приёма Болеслав Павлович совершенно внезапно почувствовал резкую, сильную боль в области правой икры. Боль эта была настолько резкой, что ему, в этот момент осматривавшему больного, пришлось внезапно сесть. И едва сдержавшись, чтобы не закричать, он попросил больного выйти из кабинета и вынужден был прекратить приём.
Через несколько минут эта боль также внезапно, без какого-либо лечения, прошла, он продолжил и благополучно закончил приём больных. Жене об этом случае он не сказал ничего, но сам тут же поставил диагноз: склеротический спазм сосудов нижних конечностей, и решил провести кое-какое лечение. Он стал по вечерам массировать больную ногу и делать для неё тёплые ванны. Никаких лекарств внутрь он, конечно, не принимал, да тогда их и не было. Не бросил он и курить: тогда ещё не знали об огромном вреде курения при этих заболеваниях.
Вскоре приступ повторился, хотя и слабее первого; затем эти приступы участились, но происходили кратко, больной к ним привык и перестал придавать им значение. Он по-прежнему работал в больнице и амбулатории, имея нагрузку до 12-14 часов в день. Также продолжал ездить на вызовы в ближайшие деревни и сёла, воевать с различными начальниками, добиваясь для своей больницы всего необходимого. И, пожалуй, никто, кроме его жены, не замечал начала его заболевания.
Как-то в конце октября 1919 года приступ произошёл ночью. На этот раз боли захватили обе ноги и не прекращались почти всю ночь. Утром Зинаида Михайловна без ведома мужа сообщила об этом по телефону Дмитрию Болеславовичу, и тот в этот же день привёз из Кинешмы одного из городских врачей, хорошо знавшего обоих Пигута.
Осмотрев Болеслава Павловича, врач решил, что это простудная ишиалгия (мед. Боль, связанная с седалищным нервом – прим. ред.), и назначил салициловые препараты внутрь и тёплые ванны. Сам больной, по опыту лечения правой ноги, кроме того, решил применить и массаж мышц. Почти в течение года эти мероприятия временами приносили облегчение, боли не появлялись по нескольку недель, а затем внезапно возникали. Кроме того, «в результате массажа», как писал в своём письме сыну Болеслав Павлович, на коже икры левой ноги и на стопе стали появляться ссадины, язвочки, не заживавшие от применения мазевых повязок.
Само собой разумеется, что всё это время старый врач ни на один день не прекращал своей трудной работы на врачебном участке и, несмотря на всё учащающиеся болевые приступы, незаживающие язвы на левой ноге, на отёки, образовавшиеся на стопах, продолжал аккуратно совершать обходы в палатах своей маленькой больнички, вести многочисленный амбулаторный приём. Только, да и то, пожалуй, больше по настоянию жены, чем по собственному побуждению, стал реже выезжать к больным на дом, посылая вместо себя фельдшера.
А Зинаида Михайловна, человек от медицины очень далёкий, всё-таки начала понимать, что болезнь её мужа гораздо серьёзнее, чем предполагали видевшие его врачи.
После первого посещения Болеслава Павловича врачом из города Кинешмы его несколько раз осматривали врачи, привозимые сыном из Костромы и Судиславля, но и они ничего серьёзного не нашли и по существу никакого лечения не назначили.
К ноябрю 1920 года ссадины и язвочки, появившиеся на обеих ногах, стали причинять больному такое беспокойство, а изменение кожи, клетчатки и мышц приобрело такой характер, что сам Болеслав Павлович, хоть он и не хотел этого, вынужден был поставить себе диагноз: гангрена. Считая, как, впрочем, и все врачи того времени, что единственным радикальным лечением этого заболевания является скорейшая операция – отнятие ноги или, во всяком случае, иссечение поражённых мышц, он не стал беспокоить жену, а сам позвонил сыну, сказал ему о предполагаемом диагнозе, и когда тот усомнился в правильности, то не выдержал и, сердито буркнув:
– Приезжай, сам увидишь, – бросил трубку.
Совершенно случайно нам попали в руки записки Дмитрия Болеславовича Пигуты о своей поездке и о дальнейшем лечении его отца. Я позволю себе привести некоторые выдержки из них:
«…приехав к Болеславу Павловичу 10 ноября 1920 года, я застал такую картину болезни: на тыле левой стопы, на самом подъёме была рана величиной больше ногтя большого пальца, продолговатая, покрытая чёрным струпом, с нешироким воспалительным пояском вокруг. На средней трети голени снаружи была другая такая же язва, кожа вокруг них тёмно-багрового цвета, отёчная. Все язвы причиняли больному сильную боль…»;
«… я нашёл Болеслава Павловича похудевшим, что он объяснил плохим сном и болями. Температура субфебрильная. Он всё время продолжал работать, ведя амбулаторные приёмы сидя. До моего приезда язвочки смазывались йодом, а затем на них накладывались влажные карболовые повязки…»;
«… по возвращении из Рябково я вновь консультировался с доктором Буткевичем, который натолкнул меня на мысль о возможности сахарного диабета. При повторной поездке я произвёл исследование мочи, но сахара в ней не обнаружилось»;
«… предположений о возможности гангрены пока ни у кого из консультантов не возникало…»;
«… решено делать компрессы из соды. Болеслав Павлович стал лежать на постели по нескольку часов в день, но от посещения амбулатории отказаться не хотел. У фельдшера, делавшего ему перевязку, так же, как и у меня на пальце, медленно подживали язвы после фурункулов, и нам нетрудно было укрепиться в общем заблуждении об аналогичном характере ран и у Болеслава Павловича. Тем более что Буткевич делал несколько докладов, объяснявших, почему у населения в последние годы стали плохо заживать гнойные раны и язвы. Он объяснял это плохим питанием и психическими потрясениями. Сам больной был уверен в правильности своего диагноза и не раз повторял фельдшеру, перевязывавшему его, что у него гангрена и что ногу нужно отнимать. Однако наши успокаивающие слова несколько приободрили его, он и сам замечал, что у наблюдавшихся им больных раны заживают плохо»;
«… в последнее посещение Рябково и по отъезде оттуда я в глубине души чувствовал беспокойство за исход дальнейшего лечения: сомнительная асептичность перевязок, невозможность строгого постельного содержания больного и соблюдения им режима не благоприятствовали лечению. У меня и у жены Болеслава Павловича возникла мысль о том, чтобы перевезти его в Кинешму, что рекомендовал сделать и Буткевич. Задержка с перевозом больного объяснялась тем, что питание в Кинешме организовать было очень трудно. 25 ноября, когда я уезжал из Рябково, Болеслав Павлович был бодр и перемогал боли в ноге».
Через несколько дней новое тревожное сообщение по телефону: боли усилились, даже не может лежать; у больного был доктор Доброхотов, прописавший внутрь йод, содовые ванны для ног, строгий постельный режим. Доктор Буткевич потребовал перевода больного в г. Кинешму, в больницу.
«По приезде к больному 7 декабря меня поразил и его вид, и вид раны: последняя увеличилась и почернела, кроме того, на задней поверхности отёчной стопы и около большого пальца появились тёмные пятна различной величины. Одновременно больной стал жаловаться на боли в паховых лимфатических узлах. На мой взгляд, выявлялась картина острого воспалительного лимфаденита, так как одновременно температура тела повысилась».
Болеслав Павлович заметно похудел, спать он мог только сидя, боли усиливались часам к пяти утра.
– Единственное спасение мне, – повторял он, – отнять ногу.
«Решив увезти больного при первой возможности, я выждал несколько дней, надеясь на падение температуры. Но этого не произошло, больной ночью спал очень мало, днём сидел, положив ногу в согнутом состоянии на стул. С восьмого декабря он перестал производить амбулаторный приём. Состояние духа удручённое. Верит только в операцию, и в помощь Буткевича верит безусловно (эта вера во врача поддерживалась его деятельностью в Обществе врачей и его польской национальностью).
Поездка произошла 12 декабря, после того как больного удалось вымыть. Дорогу он перенёс против ожидания стоически, и в восемь часов вечера мы уже были в моей квартире. По приезде пригласили Буткевича, который, осмотрев больного, поставил диагноз: гангрена и предложил ампутацию в области голени или нижней трети бедра, а может быть, операцию по Оппелю, хотя от последней он хороших результатов не видел.
13 декабря в пять часов вечера Болеслава Павловича одели, он сам надел валенки и шубу, поддерживаемый нами, сошёл с лестницы и сел в сани. В больницу вошёл сам, его поместили в свободной палате № 5. Палата казалась чистой, каждое утро протирались полы, но через несколько дней оказались вши на белье и на больном, а потом неоднократно я и Зинаида Михайловна, ночевавшая в палате с больным, снимали вшей с себя. Вечером в день приезда Болеслав Павлович просил ванну, но не оказалось тёплой воды.
14 декабря при перевязке обнаружилось ухудшение раны и увеличение отёка стопы. Пульсации тыльных артерий на обеих стопах не было.
15-го, в среду, вновь появился лимфаденит. При перевязке вокруг раны доктор Буткевич сделал насечки, уменьшившие напряжение тканей и ослабившие боли.
18-го приехала Зинаида Михайловна и фельдшер Кузовкин. Им было разрешено свидание с больным.
20-го, в понедельник, сильные боли в желудке. Вид ран улучшился. Решено с операцией подождать. Больному назначена сильная порция слабительного. 21-го температура намного ниже нормы, сильная слабость, больной почти ничего не ест. Беспокоят боли в желудке, усилились боли в ноге. С этого дня назначено ежедневное впрыскивание стрихнина. Вечером 21 декабря Буткевич со мной в беседе сказал:
– Надо делать операцию – силы падают.
С 22 декабря было разрешено дежурство при больном мне и его жене. Ночью он говорил ей:
– Увези меня в Рябково, я страшно тоскую.
Все эти дни больному беспрерывно вводился морфий.
28-го на утреннем обходе ординатор Лебедева спросила:
– Готовитесь к операции? Волнуетесь?
– Нисколько, – ответил Болеслав Павлович, – я уже старик, всё равно рано или поздно надо умирать…
В одиннадцать часов дня появился Буткевич.
– Мы запоздали, – сказал он, – пришлось сначала сделать другую операцию. Как боли, сон?
Больной ответил:
– Не беспокоили, чувствовал себя хорошо.
– Может быть, отложим операцию до завтра? Нет уж, тогда до четверга.
У меня и у Зинаиды Михайловны, присутствовавших при этом разговоре, от этого откладывания стало легче на душе, возобновились надежды, что в операции надобности не будет.
Вечером этого дня папа, между прочим, сказал Зинаиде Михайловне:
– Всё равно я буду калека, не работник, я буду подлецом перед тобой.
Она, конечно, старалась успокоить его.
30-го, в четверг, больной не спал всю ночь, выглядит плохо, температура тела не поднималась выше 35,5. В 12 часов, при обходе, папа спросил у Буткевича:
– Ведь на сегодня назначена операция?
Тот ответил:
– Вы сегодня плохо выглядите, перенесём на завтра.
31 декабря я пришёл в больницу в 10 часов утра, папа меня не узнал, поздоровался за руку как с чужим, хотя как будто и был в сознании. Около двух часов на папином лице внезапно появилась бледность, пульс очень ослаб. Я позвал доктора Лебедеву. Она поставила диагноз: коллапс, приказала сестре немедленно впрыснуть кофеин и вызвала доктора Буткевича. Тот отменил назначение всех лекарственных средств, приказал влить под кожу 1000 куб. см раствора соли и ввести повторно кофеин. Сознание больного восстановилось».
«…около двух часов дня папа сказал мне:
– Нет уж, теперь ни операция, ничто мне не поможет, – и попросил его немного приподнять, чтобы он мог присесть. Я осторожно подсунул ему подушку, и он облегчённо закрыл глаза.
В 2 часа 20 минут я вновь заметил бледность, разлившуюся по лицу папы, попробовал найти пульс, но ударов его не ощутил. Позвал Зинаиду Михайловну, прибежала сестра милосердия… Все кончено!!!»
Вот так описал последние дни жизни своего отца Дмитрий Болеславович Пигута. Нам теперь, через 60 лет, можно прокомментировать эти описания, нужно ли?.. Пожалуй, всё-таки нужно. Вам, мои читатели, живущие совсем в других условиях, при совершенно другом уровне медицинской науки, небезынтересно будет знать, кто же всё-таки был прав при лечении этого больного, близкого нашему герою человека, и были ли допущены в этом лечении серьёзные погрешности. По мере наших скромных сил попытаемся это сделать.
Итак, Болеслав Павлович Пигута скончался 31 декабря 1920 года в 14 часов 20 минут, имея от роду немногим более 72 лет. Он пережил свою первую жену всего на 1 год и 5 с половиной месяцев и оставил вторую с младенцем одного года и двух месяцев без всяких средств к существованию.
Похоронили его в Рябково возле могилок его маленьких сыновей. Всё личное имущество его, которого после пожара 1917 года уцелело совсем немного, осталось в наследство его второй жене. Зинаида Михайловна, распродав все крупные вещи, вместе с дочуркой переехала в село Адищево, где с начала нового учебного года решила приступить к своей учительской деятельности.
Со смертью Болеслава Павловича единственный материальный источник его новой семьи – его жалование – прекратился, а вырученных от продажи денег хватило очень ненадолго.
И так же, как это было с другими родственниками, заботу об этой семье взял на себя Дмитрий Болеславович Пигута. До тех пор, пока Зинаида Михайловна не начала работать, то есть до сентября 1921 года, он ежемесячно посылал ей небольшие суммы, вырывая их из более чем скромного бюджета своей семьи. Делал это он, как всегда, тайно от жены, и когда она об этом узнавала, то и к этой родственнице у неё возникали недружелюбные чувства.
Вернёмся, однако, к болезни и кончине Болеслава Павловича Пигуты. В течение сорока шести лет он бессменно проработал на одном и том же месте, в довольно глухом селе Кинешемского уезда Костромской губернии. Он, можно сказать, был там первым и долгое время единственным врачом местной больницы. Тысячи людей в этом медвежьем углу матушки России были обязаны ему здоровьем, а многие и жизнью.
Трудный это был человек с тяжёлым, неуравновешенным характером, много огорчений и зла причинил он своим самым близким людям, но одновременно это был один из гуманнейших людей, отдававший своему почётному, сложному и важному делу не только все свои знания, но и всю свою силу, всю страсть своей души.
И даже тогда, когда тяжёлая болезнь, печальный прогноз которой он прекрасно сознавал, неумолимо подтачивала его силы, когда от жесточайших болей он не спал ночами, когда эти боли заставляли его – терпеливого человека – не только стонать, а почти кричать по ночам, днём он продолжал лечить больных. Только за двадцать два дня до своей смерти, за день до госпитализации он провёл свой последний амбулаторный приём…
Со дня его смерти прошло более 60 лет, и теперь, используя сохранившиеся материалы, главным образом, подробные записки его сына, длительное время наблюдавшего течение болезни и находившегося при больном в последние минуты его жизни, в свете современных медицинских знаний я могу довольно трезво и, главное, спокойно обсудить характер заболевания и причину смерти Болеслава Павловича, а также высказать своё беспристрастное мнение о действиях лечивших его врачей.
Я считаю необходимым это сделать потому, что выводы его сына в записках, часть которых мы привели, слишком субъективны, пристрастны, очевидно, вызваны тяжёлой утратой.
Первое, что следует отметить, это то, что самый правильный и самый своевременный диагноз заболевания был поставлен себе самим Болеславом Павловичем. Он почти с первых дней болезни решил, что его боли, а впоследствии язвы и отёки ног являются следствием сосудистых нарушений, и безапелляционно заявил, что у него гангрена. Он первый же и предложил единственно правильный в тех условиях способ лечения – ампутацию.
Но надо понять и окружающих его близких людей. Сама операция, может быть, и не представляла такой уж большой опасности. В общем-то, крепкий человек, он при своевременном её проведении, несмотря на свой возраст, вероятно, перенёс бы её вполне удовлетворительно, но превратить человека в калеку, неспособного к труду – вот что пугало его и окружавших его людей. Именно поэтому, оставаясь в душе убеждённым в своей правоте, он легко поддался уговорам тех врачей, которые, может быть, в силу своих не очень глубоких знаний, а может быть, стремясь отмахнуться от трудного диагноза, говорили: «ишиалгия», «простые ссадины», «ревматизм», «простуда» и т. п. Сообразно этому назначали и лечение.
Возможно, что лечившие его врачи сдерживались в своих действиях несовершенством тогдашней медицинской техники, скверными материальными условиями и боязнью активного вмешательства в связи с преклонным возрастом больного. Ведь в 1920 году семидесятилетний человек считался глубоким стариком.



