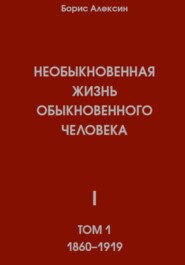 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Очень давно не имею сведений о тебе. Напиши немножко о себе и своём мальчугане…»
И в этом письме, проникнутом заботами о сыне, брате и живущих с нею внуках, Мария Александровна опять ничего не пишет о своём здоровье, а оно становилось всё хуже. К болям в животе присоединилась почти ежедневная рвота. Она, однако, продолжала тщательно скрывать свой недуг, опасаясь, что её могут уволить с работы. В Темникове имелось достаточно и молодых учительниц без места.
В письме от 30 марта 1919 года она сообщает сыну о расстройстве своего здоровья, но очень неясно и только вскользь: «Милый мой Митя! Твоё письмо от 8 марта я получила 15-го, и, к своему стыду, только сегодня на него отвечаю. Правда, что по вечерам лень одолевает, да к тому же прихворнула я немного: снимая на морозе с носа очки, положила их мимо кармана, а придя из школы и пообедав, вместо того, чтобы отдохнуть и посидеть дома, узнав, что очки подобрал один из учеников, отправилась его разыскивать: сперва узнавать адрес, потом на дом к ученику, на край города, и добегалась до того, что свалилась и просидела дома три дня, всё больше валялась. Если же я веду себя, как следует солидной даме, и не позволяю себе резвиться, то чувствую себя сносно и работаю не хуже молодых.
Рада, что ты стал мне писать иногда. Мне не надо длинных писем, но страшно дорого получить иногда несколько слов от тебя.
Писала мне Мирнова, что жена покойного Николая Геннадиевича привезла к ней бедного Славу и оставила у неё. Ужасно мне жаль этого бедного ребёнка! Сколько ему пришлось вынести после смерти матери! Я уже подумываю взять его к себе, когда Борю возьмут в Сибирь…»
Письмо это, как и предыдущие, дышит бодростью и оптимизмом и совсем не похоже на то, что его писала старая и совсем больная женщина. А ведь это было её последнее письмо к сыну.
* * *Мелочные, будничные заботы, о которых пишет в своих письмах Мария Александровна, такие же заботы и у младшего поколения её семьи – у её внуков, поглощённых всякими школьными происшествиями и делами, заслоняли от них то огромное, что свершалось в это время в стране. Ведь описанное нами было зимой и весной 1919 года.
Где-то там, за пределами Темникова, происходило множество важнейших событий: шла Гражданская война, советская власть, окружённая кольцом блокады и пылающих фронтов, проводила в жизнь свои первые важнейшие декреты и постановления, организовывались новые учреждения, реорганизовывались и упразднялись многие старые, жизнь в стране кипела, как в котле. В Темникове все эти события отражались как-то глухо, и, по крайней мере, для тех лиц, жизнь которых мы взялись показать, малозаметно.
Было, например, известно, что все помещичьи и монастырские земли заняты крестьянами окружающих деревень и поделены между ними. Брошенные хозяевами, сбежавшими большей частью неизвестно куда, поместья и усадьбы, сады, оранжереи, скотные дворы, несмотря на организуемую местными советами охрану, подвергаются разграблению, причём растаскивается всё: не только скот или сельскохозяйственные орудия, но и мебель, и оставшаяся одежда. Некоторые усадьбы были подожжены. Кто это сделал, темниковским властям установить так и не удалось. Чтобы спасти кое-какие культурные ценности этих поместий, особенно библиотеки, Темниковский Пролеткульт (было создано и такое учреждение, хотя никто толком и не знал, что оно должно делать) постарался вывезти в город книги из усадеб Демидовых и Новосильцевых. Привезённое сваливали в различных помещениях, в том числе, на чердаке городской библиотеки, а полностью заполнив его, – и в доме, в котором до революции размещался детский сад, содержавшийся на средства Новосильцевой. Через год или два именно в этом доме открылась вторая городская библиотека, укомплектованная в основном помещичьими книгами.
Часть монахов и монашек из ближайших монастырей покинули их и разбрелись кто куда. За теми же, кто остался, сохранили землю, занятую огородами, садами и пасеками, и потому они продолжали существовать пока ещё безбедно.
Говорили, что в Саровском монастыре обосновалась какая-то банда, и красноармейским отрядам, отправлявшимся туда, выгнать её пока не удавалось.
Пуштинское лесничество находилось между Саровским монастырем и Темниковым, а так как ходили слухи, что банда намеревается идти в город, то Стасевичи весной в лесничество почти не ездили. Янина Владимировна, преподавая в школах второй ступени и будучи единственным школьным врачом города, была так занята, что не могла уехать, а отправлять детей с прислугой не решалась. В лесничестве бывал только один Иосиф Альфонсович.
С потеплением занятия в школе, где учился Алёшкин, как-то сами собою почти прекратились, и ученики приходили только позавтракать да побегать по двору и огромному саду, имевшемуся при бывшем Саровском училище. Объясняется такая расхлябанность тем, что школа опять осталась без заведующего. К Пасхе Мария Александровна Пигута так расхворалась, что, несмотря на всё своё мужество и желание, работать уже не смогла. Всё ухудшающиеся материальные условия, постоянное недоедание, огромное нервное напряжение на работе и чрезвычайно тяжёлая домашняя обстановка окончательно подорвали силы бедной женщины.
Её приятельницы и друзья давно и категорически настаивали на том, чтобы она бросила работу и занялась своим здоровьем. Особенно этого добивались Маргарита Макаровна Армаш, Анна Захаровна Замошникова и Янина Владимировна Стасевич.
Не замечали ухудшения состояния здоровья Марии Александровны только её домашние: внуки – по своему малолетству и свойственному детям легкомыслию, а дочь Елена Болеславовна просто не обращала внимания на страдания своей матери. Её безразличие и чёрствость по отношению к родной матери не поддавалась никакому объяснению.
Словно не видя значительного ухудшения материального положения семьи, капризная Лёля продолжала требовать за обедом для себя и своей дочери любимых блюд и кушаний. Тётя Лёля, не стесняясь, забирала себе львиную долю продуктов, добываемых матерью и Полей, не обращая внимания на то, что остаётся матери и племяннику.
Видели это и Мария Александровна, и Боря. И если первая такой грабёж сносила без ропота, ограничиваясь вздохами и укоризненными взглядами, то второй всегда бурно протестовал, чем вызывал очередной скандал.
После одного из таких скандалов Мария Александровна наконец не выдержала и объявила своё решение:
– Хорошо, Лёля, не шуми. Ты знаешь, что у нас сейчас очень плохо с сахаром, доставать его негде, а то, что мне всё-таки удаётся покупать, ты почти целиком забираешь себе и Жене. Это несправедливо. Вот я добыла на следующий месяц пять фунтов сахара. Нас, включая Полю, пять человек. Пожалуйста, не протестуй: Полю я считаю полноправным членом нашей семьи, она уже много месяцев никакого жалования не получает, а между тем, если бы не она, мы бы сидели совсем голодные, да и ходили бы во всём грязном, так что я решила твёрдо. Так вот, сахар мы разделим поровну на всех, и пусть каждый ест свою долю.
Елена спорить не стала. Сахар был пилёный рафинад. Каждому досталось по несколько десятков кусочков. И если Мария Александровна, Поля, а глядя на них, и Боря бережно относились к своему сладкому сокровищу и старались расходовать его экономно, прекрасно понимая, что на следующий месяц можно и вовсе сахара не получить, то и Елена Болеславовна, и Женя, не желая ни о чём думать, съели свой сахар за неделю. После этого, к великому возмущению Бори, обе они стали бессовестно, как он считал, поедать сахар бабуси и даже Поли так, что последним сахара не досталось почти совсем. Всё это происходило ещё тогда, когда бабуся работала, собирая остатки своих сил.
А с весны 1919 года служащим исполкома, где работала Елена Болеславовна, стали давать паёк. Боясь, что на этот паёк будет покушаться мать с племянником и Полей, Неаскина стала питаться отдельно, не отказываясь, впрочем, от приглашений на обед, которые ей передавала по просьбе бабуси Поля. Своих продуктов, как ещё раньше и жалования, Елена в общий котёл не отдавала. Поставила в своей комнате керосинку, привезённую из Петрограда, и несмотря на очень трудное положение с керосином, забираемым опять же из запасов матери, готовила на ней из своего пайка отдельно для себя и Жени.
С апреля 1919 года Мария Александровна Пигута почувствовала себя уже настолько плохо, что была вынуждена согласиться с доводами Стасевич, и попросила отпуск на две недели. Такой отпуск полагался шкрабам (школьным работникам – прим. ред.), как стали называть учителей. Но чуть ли не на второй день этого отпуска внезапно в её здоровье наступило резкое ухудшение. Утром 10 апреля во время приступа рвоты выделилось большое количество алой крови.
Первым, кто увидел тяжёлое состояние бабуси, был Боря. Уже почти ежедневно по утрам у бабуси бывали приступы рвоты, и внук привык, что, просыпаясь (а спали они в разных углах одной комнаты, бывшей столовой), он слышал, как бабуся, нагнувшись над тазом, тихо стонет, стараясь никого не потревожить. В этот день он тоже не особенно удивился, услышав обычные стоны бабуси. Однако, поднявшись, увидел, что бабуся не сидит на своей кровати, склонившись над тазом, а стоит на коленях прямо на полу, голова её лежит на краешке кровати, а на полу около таза очень много крови. Глаза у бабуси закрыты, лицо бледное, как голубое.
Мальчишка испугался и бросился на кухню к Поле. Поля пришла, уложила Марию Александровну на кровать, прибрала в комнате, увела и накормила на кухне Борю, выпроводила его в школу, сообщила о том, что с Марией Александровной, плохо Елене Болеславовне, и убежала к Стасевичам, чтобы позвать Янину Владимировну.
На слова Поли Елена Болеславовна, торопясь на службу, даже не заглянув к матери, пробурчала:
– Ничего не случится, полежит денька два, и всё пройдёт.
Поля, между тем, по требованию Янины Владимировны помчалась в больницу, чтобы передать о случившемся с Пигутой доктору Рудянскому.
Вскоре в квартире Марии Александровны находились уже оба врача. Осмотр больной, опрос, общий вид и известные обоим её предыдущие заболевания постановку диагноза не затруднили – оба согласились на одном: кровотечение из желудка вызвано распавшейся опухолью – раком. Да она и сама, видевшая страдания дочери Нины, ещё гораздо раньше поняла, что её заболевание носит тот же характер, и только никому об этом не говорила. Сегодняшнее ухудшение, к тому же наступившее так внезапно, напугало её. Но боялась она не за себя, а главным образом, за оставляемую ею семью, и в особенности за несчастных детей Нины.
Попросив друзей пока ничего не говорить Елене о её болезни, а также и не сообщать сыну, она дала твёрдое слово, что все врачебные предписания будет выполнять беспрекословно.
Рудянский и Стасевич оказались в очень трудном положении: больная была настолько исхудавшей, что оба они просто поразились, как такая ослабленная и истощённая женщина ещё совсем недавно могла с таким напряжением работать?! Конечно, ей они этого не сказали. Но видели ясно и то, что о каком-нибудь активном лечении, об операции или даже о переводе в больницу невозможно и думать!
Посовещавшись, договорились, что все заботы о больной возьмёт на себя Стасевич, будет её ежедневно навещать, следить за питанием, прописывать необходимые лекарства, а Алексей Михайлович будет являться по её вызову тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Рудянский ушёл, а Янина Владимировна, поняв, что единственное, что можно сейчас сделать, это как-то подкрепить организм больной, выяснила у Поли, что в доме, кроме картошки, небольшого количества ржаной муки, постного масла и двух фунтов мяса, продуктов нет, а также нет и денег. Она решила помочь своей старшей, очень уважаемой и близкой приятельнице, чем только возможно. И не обращая внимания на протесты Марии Александровны, Стасевич приказала Поле идти с ней и отправила из дома для больной яйца, сливочное масло, молоко, курицу, сахар и белую муку. Она велела Поле сварить куриный бульон и дать немного Марии Александровне.
Однако все эти яства помочь уже не могли. После нескольких ложек бульона и сваренного всмятку яйца у больной опять открылась рвота, закончившаяся, как и утром, выделением большого количества крови.
Вечером Янина Владимировна принесла приготовленное в аптеке лекарство и объяснила, как его нужно принимать. Два дня больная ничего не ела, пила чай, прописанные лекарства и очень сильно ослабла.
На третий день как будто наступило некоторое улучшение, больная смогла выпить полчашки бульона, съесть одно яичко всмятку. Приём пищи рвоту не вызвал, не было и кровотечения. Больная и врач воспрянули духом. Янина Владимировна ежедневно присылала пациентке свежие продукты: молоко, яйца, масло и, по существу, помимо лечения взяла на себя и все заботы о питании больной.
С болезнью бабуси как-то сразу развалился весь порядок в доме, и внук очутился в положении полного безнадзорья. Поля была настолько занята хозяйством и хлопотами по уходу за больной, что не могла уделять ему внимания и, лишь наскоро чем-нибудь покормив, торопилась выпроводить его в школу.
В школе же с уходом Марии Александровны тоже многое пошло вразброд. Замену ей найти не смогли. Многие педагоги стали пропускать занятия без каких-либо причин, да и ученики, особенно той группы, которая была ранее под её наблюдением и где учился Боря, стали с уроков убегать иногда всей группой. Глядя на них, стали делать это и другие группы.
Оставленный Наробразом временным заместителем заведующего школой учитель рисования не чаял, когда наступит конец учебного года, так как справиться ни с учениками, ни с учителями не мог.
Елена Болеславовна на племянника никакого внимания не обращала. Да и к больной матери она заходила раз в несколько дней, всегда торопясь как можно скорее от неё уйти. Женю к больной бабушке она не допускала совсем. Боря, наоборот, бывал у бабуси часто, хотя и не очень долго. По её просьбе он читал ей вслух рассказы Чехова, Гоголя и стихи Некрасова, которые она очень любила. Но с наступлением тепла и возможностью проведения игр на воздухе ему пребывание с больной тоже наскучило, и он стал забегать к бабусе всё реже и проводить у неё всё меньше времени.
Перед роспуском на летние каникулы он, как и некоторые его товарищи, увлёкся новым предметом, недавно появившимся в школе.
Школа называлась трудовой, Мария Александровна, как и некоторые другие педагоги, долго раздумывала над тем, какой вид труда нужно преподавать. До революции в епархиальной школе и в женской гимназии преподавали рукоделие – вышивание, а в мужских школах никакого трудового обучения не было вообще. А теперь необходимо придумать какой-то урок труда.
В бывшей Саровской школе поначалу этот урок вылился в приведение в порядок помещений и двора школы, а что потом?
Беседуя по этому вопросу с Варварой Степановной Травиной, Мария Александровна рассказала о своём затруднении, и та посоветовала ввести обучение учеников четвёртого и пятого классов первой ступени, где нужно было организовать уроки труда, переплётному делу.
– Кстати, – сказала она, – и моей библиотеке поможете, а то многие книги совсем растрепались, а новых пока нет.
Предложение пришлось по душе и Марии Александровне, и другим педагогам из её школы. Но пока нашли преподавателя, пока обзавелись необходимыми инструментами, прошло несколько месяцев. Только в марте месяце приступили к занятиям по переплётному делу, и эти уроки, к немалому удивлению некоторых учителей, сразу же завоевали любовь учеников. То ли преподаватель попался толковый, то ли заинтересовала ребят сама новизна дела – вернее, и то и другое вместе. Уроки эти все посещали с большой охотой, и уже через полтора месяца многие, в том числе и Алёшкин, вполне овладели начатками этого дела.
Во время болезни Пигуты, пожалуй, и дисциплина, и аккуратное посещение сохранялись только на уроках труда. К концу учебного года Боря и многие из его товарищей уже могли сшить и обрезать любую, даже самую растрёпанную книжку, а также приклеить к ней корки. Дальнейшее овладение этой специальностью откладывалось до следующего учебного года.
А болезнь Марии Александровны прогрессировала: рвота становилась всё тяжелее, всё более и более изнуряла больную, и дошло до того, что она не смогла принимать уже никакую пищу. Одновременно боли в животе настолько усилились, что бабуся – чрезвычайно терпеливый человек иногда не могла сдержать громкого крика. Врачи решили прибегнуть к болеутоляющим средствам. Лекарства эти готовились в аптеке по специальному рецепту, выписываемому Яниной Владимировной ежедневно. На рецептах ставилась надпись «cito» (по латыни), что означало «срочно». Посылали с рецептом обычно Борю, и глупый мальчишка, являясь в новую аптеку, подходил к аптекарю без очереди, а затем, когда тот вызывал:
– Кто тут от Пигуты?», – он важно проходил мимо длинного ряда ожидающих больных и торжественно нёс домой пузырёк с какой-то коричневой жидкостью. Один раз он даже попробовал её, но она оказалась невероятно противной, горькой.
Не понимал он тогда, что его любимая бабуся последними силами борется за жизнь именно из-за него. Ему казалось, что вот она ещё немного попьёт этой противной жидкости, поднимется с постели, и они, как и раньше, пойдут вместе в свою школу.
А положение больной с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Для поддержания её сил врачи были вынуждены прибегнуть к искусственному питанию при помощи питательных клизм. Само собой разумеется, что продукты для этого добывала и направляла для приготовления Янина Владимировна Стасевич. По её предложению Поля переселила Борю к себе на кухню.
Всё происходящее Еленой Болеславовной как будто совершенно не замечалось. Наконец, по предложению Рудянского Янина Владимировна сообщила Неаскиной, что положение её матери безнадёжно, и что печальный конец может наступить каждый день. Это сообщение было встречено как вещь совершенно неожиданная и непредвиденная: в ответ на него она обрушилась с обвинениями на обоих врачей, и прежде всего на Стасевич. Дочь истерично и громко плакала на весь дом, и не стесняясь того, что её может услышать больная, кричала, что безграмотные врачи уморили её мать, что надо было давно отправить больную в Москву, и что если бы ей сказали раньше о серьёзности заболевания, то она бы это сделала. (На какие средства? С кем?..) Она выкрикивала много всяких обидных слов в адрес тех, кто приложил не только все силы и знания, но и отдавал значительные материальные средства, чтобы поддержать жизнь больной.
Затем Елена спешно написала о тяжёлом положении всем ближайшим родственникам Марии Александровны, в том числе и дяде, а от него узнал о болезни матери и её сын, Дмитрий Болеславович Пигута.
Правда, сообщение о болезни матери от дяди Дмитрий получил почти одновременно с письмом Лёли. В последнем содержалось множество беспомощных жалоб и упрёков как в адрес лечащих врачей, так и в адрес самого Мити, хотя он не мог знать не только о её тяжёлом положении, но даже и о болезни: в своих письмах она ему об этом не сообщала. Почти одновременно с письмами Дмитрий Болеславович получил от Лёли и телеграмму, в которой она требовала его немедленного приезда, так как мать находится при смерти.
Эти тревожные вести в Кинешму пришли в конце мая. Но в то время выехать из одной губернии в другую советскому служащему было не так-то просто, а у Дмитрия Болеславовича этот вопрос ещё осложнялся и поведением жены. Зная, какие огромные расходы вызовет эта поездка, она против неё категорически возражала, ссылаясь на то, что Дмитрий там уже ничем помочь не сможет, что при кончине матери будет родной человек – старшая дочь.
Наконец, потратив почти две недели на получение соответствующего разрешения по службе и добившись-таки согласия Анны Николаевны, Дмитрий Болеславович в первых числах июня 1919 года выехал в Темников. Согласие своё на эту поездку жена дала ему только с тем непременным условием, чтобы он никого из родственников, живущих сейчас с матерью, ни к себе, ни куда-нибудь поближе – в Иваново или в Кинешму не привезёт: ни сестры Лёли, ни воспитывавшихся там детей. Она категорически предупредила, что если только муж не выполнит этого требования, то она вместе с сыном немедленно от него уйдёт.
Дмитрий согласился на всё, он очень хотел застать мать в живых, он так торопился, что не заехал к отцу в Рябково и даже к дяде в Иваново. И всё-таки опоздал…
Он прибыл в Темников пятого июня, то есть на следующий день после смерти своей матери.
Мария Александровна Пигута, урождённая Шипова, скончалась 4 июня 1919 года, имея 63 года и 10 месяцев от роду, от тяжёлой внутренней болезни, по-видимому, рака желудка (как свидетельствовал документ, выданный лечившим её врачом Алексеем Михайловичем Рудянским). Кончина её произошла в 12 часов дня, было воскресенье. В этот день часов в одиннадцать Боря принёс из аптеки очередную порцию лекарства, забежал на минутку к бабусе, поставил пузырёк на обеденный стол, который теперь был всегда придвинут к её кровати, и уже собрался выбежать из комнаты, но она его окликнула.
Последние дни ей как будто стало немного легче, боли или под действием лекарств, или ещё почему-либо, мучили её меньше, она не так сильно стонала и больше обращала внимание на окружающее. Остановив внука, она спросила:
– Боря, ты почему не в школе?
Боря удивился: «Ну и бабуся, совсем беспамятная стала…», – и он громко сказал:
– Да ведь сегодня воскресенье, ты что же хочешь, чтобы мы и в воскресенье учились? А потом, у нас всё равно через два дня каникулы начинаются. Да ты меня опять не слушаешь! – добавил он обиженно, увидев, что она в изнеможении вновь откинулась на подушку и закрыла глаза.
– Бабусь, ну я пойду, ладно?
Больная на его слова чуть заметно кивнула головой, мальчик выбежал из комнаты и помчался на двор. Последнее время ему всё труднее было находиться с бабусей: в её комнате стоял очень тяжёлый запах, она часто стонала и почему-то иногда засыпала во время разговора, и потом, самое главное, в её комнате надо было говорить полушёпотом.
Вначале это казалось даже интересным, но через 2–3 минуты становилось невтерпёж. У него был звонкий громкий голос, и начав что-нибудь рассказывать больной, он увлекался, забывал о полушёпоте, и прибегавшая Поля немедленно его выдворяла. Так понемногу он привык к тому, чтобы заглядывать к бабусе только на минутку.
А сегодня Поля не велела уходить далеко от дома до обеда, мальчик решил докончить сражение с зарослями крапивы, начатое ещё несколько дней тому назад. Добыв из-под крыльца, где он прятал всё свое дреколье, как говорила Поля, саблю и ещё какую-то палку, изображающую пику, Боря с воинственным криком побежал в угол двора. Сражение началось. Его сабля, как ему казалось, блистала молнией, головы его многочисленных врагов так и летели во все стороны!
Увлечённый битвой и своими воинственными криками, он не сразу услышал голос Поли:
– Боря, Боря! – сквозь слёзы звала она, – иди скорей, бабуся умирает…
Он бросил саблю и со всех ног рванулся к крыльцу. И вдруг его движения стали медленными и неуверенными, отчего это произошло, он не сумел бы объяснить. Его ноги как будто налились свинцом, сделались тяжёлыми и неповоротливыми, и он шёл всё медленнее и медленнее. Мальчику стало страшно…
Поля рассердилась:
– Да иди ты скорей, чего так тащишься?! Бабуся тебя звала, наверно, проститься хочет, может, ещё успеешь! Скорее! – крикнула она и побежала в дом.
Однако Боря шёл всё так же медленно. Он думал. Он уже знал, что бабуся, сколько бы ни пила этой противной жидкости, уже не встанет, не пойдёт с ним в школу. Взрослые, не стесняясь, говорили об этом, причём и мальчишка где-то в глубине души тоже ждал, что бабуся умрёт… Но, во-первых, он не думал, что это произойдёт так скоро, ведь только час назад она разговаривала, а во-вторых, он не предполагал, что смерть приходит так просто, так неожиданно.
В горле у него защемило, защипало в носу, и из глаз потекли слёзы. Он не вытирал их, а так с текущими по щекам, оставляющими на его пыльном лице светлые дорожки, капающими на рубашку слезами и вошёл в столовую.
Там было много людей. Сначала он не разглядел их. Увидел только бабусю, которая лежала на кровати, желтовато-белая, со спокойным и каким-то не своим лицом, со сложенными на груди руками. В них уже был кем-то вложен образок. Глаза её были закрыты.
В углу столовой, в ногах бабусиной кровати стояла на коленях Поля и громко плакала. Боря понял, что бабуся умерла. Слёзы по его лицу потекли сильнее, и чтобы скрыть их, он отошёл к окну и отвернулся. Изо всех сил старался мальчишка сдержаться, чтобы не заплакать громко, навзрыд, слёзы вытирал рукавом, а за его спиной не стихал плач Поли, кто-то ещё всхлипывал, а кто-то даже и высморкался. Это его возмутило: разве можно, когда бабуси уже нет, когда она уже никогда не поговорит с ним?! Он обернулся, успел увидеть: сморкался Алексей Владимирович Армаш. Захотелось крикнуть: «Не мог дома этого сделать?!»



