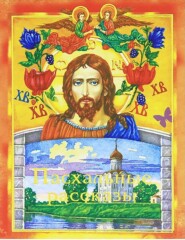скачать книгу бесплатно
Отперли и вторую дверь, и о. Петр очутился в церкви.
Чем-то непривычным и жутким пахнуло на о. Петра. По-видимому, все в церкви было как и раньше. Осталось все прежнее. Да. Прежнее, прежнее. Вот прежние иконы. Те самые, пред которыми о. Петр отслужил столько литургий, отпел столько молебнов и акафистов, пред которыми ставил свечи и кадил ладаном. И сколько глаз устремлялось бывало к этим иконам, сколько пред ними было пролито слез и горестных, и радостных, и благодарных!.. Те самые иконы… Тогдашние… И все тогдашнее… И плащаница здесь, у стены. И панихидный столик… И этот ореховый киот с иконой Пантелеймона. Да все, все… Но как все это посиротело, как одиноко все и уныло. Подсвечники покосились – и да, да – покрылись ржавчиной. Вот, видно даже при фонаре. Резьба искрошилась и то там, то здесь валяется на полу. Под ногами даже трещит. Отец Петр поднял веночек с потускневшей позолотой. Но куда его? Он был там, наверху киота. Отец Петр бережно положил веночек на окно. Руку его сейчас же опутала густая, липкая паутина. Батюшка пошел дальше. Под ногами хрустела резьба и трещали стекла. Должно быть, были разбиты окна. Отец Петр взглянул вверх. По арке были расставлены стаканчики. Можно было разобрать вензеля.
– Боже мой! – обрадовался о. Петр. – Как тогда!
Но многие стаканчики выпали и с застывшим маслом валялись на полу.
– Какое запустение! – подумал о. Петр. – Хоть бы убрали…
Ходя по церкви из угла в угол, о. Петр с нежностью, с чисто материнской ласковостью дотрагивался то до одной вещи, то до другой, прижимал к себе, подолгу держал в руках, целовал и крестился.
Пришли на клирос. Все было по-прежнему. Вот столик, за которым читали шестопсалмие, часы и проч. Вот место, где всегда стоял бас Никанорыч. Шкапик с книгами. И книги все те же… Апостол, Часослов…
– Боже мой! – пугался о. Петр. – Ужели это я? Я, отец Петр, здешний священник? И ужели это та церковь, где я служил? Боже мой!..
Отец Петр прошел на амвон. Все по-старому. Обратился к западным дверям и долго стоял неподвижно.
«Это Пасха? – думал он. – А бывало? А? Сколько радостных, оживленных лиц видно было с этого амвона! Какой чувствовался религиозный подъем! Праздничные одежды, бывало… Свечи в руках…»
– Мир все-ем! – протянул о. Петр, и голос у него оборвался. Лицо перекосила судорога.
«Можно ли больше надругаться над верующей душой? – подумал он, поистине зол и мстителен сатана. Где пасхальные цветы? Где огни пасхальные? Где радость? Где восторг? Где ликующие гимны? О-о!..»
О. Петр отыскал в шкапу Цветную Триодь и открыл ее на первых страницах. Сторож поставил фонарь в сторону, а сам присел на сундук в углу и задремал. О. Петр попробовал читать по Триоди, но было темно.
Нет ли где здесь свечи? На клиросе всегда были свечи…
Действительно, тут же на окне оказался желтый огарок, твердый, как гвоздь. О. Петр подошел к фонарю и приложил огарок к огню. Огарок затрещал, и о. Петр радостно улыбнулся. Он всегда любил этот треск свечи ранними утрами, когда он еще до рассвета приходил в церковь и сам зажигал первую свечу. Он и вообще любил свечу именно желтую, восковую, такую пахучую. Любил ее запах, ее скромный и пугливый огонек, любил он молиться со свечой. Она как будто зажигала что-то в душе, как будто говорила ей что-то. Она сама была как будто что-то живое и нежное. О. Петр долгим, любовным взглядом посмотрел на свечу и поднес ее к Триоди.
Им опять овладела нервная дрожь.
Какие слова! Как все это близко! Как дорого!
«Об часе утреннем параекклисиарх… вшед во храм, вжигает свещи вся, и кандила: устрояет же сосуды два со углем горящим, и влагает в них фимиама много благовоннаго… яко да исполнится церковь вся благовония. Также настоятель… со иереи и диаконы облачатся в весь светлейший сан».
И дальше: «Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся»…
Знакомые, любимые, священные страницы! Помнит о. Петр, как еще будучи учеником духовного училища, любил он Великим постом заглядывать в эти заветные страницы, и как тогда еще святые и торжественные слова наполняли его благоговейным трепетом.
О. Петр медленным шепотом читал страницу за страницей: «Очистим чувствия и узрим… Христа блистающая… Да празднует же мир – Христос бо воста… Веселие вечное.
– Вечное! – остановился о. Петр и продолжал читать дальше: «… из гроба Красное правды нам возсия Солнце… О другини! Приидите вонями помажем Тело живоносное… Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки!»
– Во веки… Во веки… – повторял о. Петр.
В глазах у него зарябило. И дышащие радостью слова священных песен, и восковые капли на листах Триоди, и какой-то особенный, ни с чем не сравнимый запах от церковных кожаных книг – все это казалось о. Петру до того сродным, во всем этом было так много души о. Петра, а также души его отца, деда, прадеда, души дьячка Ивана Кузьмича и всех его предков, души церковного старосты, церковного сторожа, здесь было так много подлинной, живой души каждого русского мужика, всего русского народа, что взять все это и куда-то запереть, взять Цветную Триодь и не дать возможности держать ее в пасхальную заутреню пред радостными, возбужденными лицами певчих, не капать на ее листы воском, не петь по ним веселыми играющими напевами сладостных песней – да это… это невозможно! Это просто невероятно! Это значит – взять душу у о. Петра, у Ивана Кузьмича, у всех мужиков, у всего народа и совершить над этою душою, живою и не думающею умирать, совершить какое-то тяжкое и гнусное преступление… Нет! Это невозможно. И не может быть сомнения, что вот нынче же, сейчас, в эту же ночь запоют по старым, закапанным страницам Триоди, оживят эти страницы, а также жизнью наполнят и все вокруг… Это несомненно.
Но о. Петр оглянулся назад, увидел грязь и пустоту церкви, услышал храп сторожа в темном углу, и стремительный поток его радужных мыслей разом оборвался. Он посмотрел на книгу, горько усмехнулся, оглянулся на сторожа и робко, стыдливо как-то спросил:
– А послушайте… Господин!.. Послушайте… Можно здесь немного попеть?.. Я потихоньку бы… А?
Совсем было заснувший сторож приподнялся на локте, посмотрел вокруг, увидел, что ничего особенного не произошло, и пробормотал:
– Ладно… Пожалуйста…
О. Петр торопливым шагом на цыпочках подошел к ризничному шкапу и отворил его. Двери на ржавых петлях заскрипели незнакомым, режущим звуком. О. Петр брал то одну ризу, то другую…
– Вот, вот она… Пасхальная, – произнес он и, благословив белую отсыревшую ризу, облачился.
Торопливо и осторожно, куда-то спеша и чего-то опасаясь, прошел он в алтарь. Стал пред престолом и неуверенным, дрожащим от волнения голосом возгласил:
– Слава святой… и неразделимой Троице… И сам же запел: – Ами-инь.
И затем продолжал:
– Христос воскресе из ме-ертвых, смертию смерть попра-ав…
Голос о. Петра звучал в пустой, заброшенной церкви глухо и странно. И в звуках этого одинокого голоса пустота и заброшенность церкви сказывались как-то резче, больнее и несноснее.
– И сущим во гробе-ех…
Но здесь голос о. Петра опять оборвался. Он бессильно опустился пред престолом на колена, положил на него свою голову и громко и безудержно зарыдал:
– Господи, Господи! – говорил он между рыданиями. – Великий Боже! За что такое наказание? За что мука такая? Ужас, ужас! Господи! Лучше возьми меня от этого кошмара. Возьми к Себе. Господи! Возьми к Себе. Или пошли, Господи, людям веру! Пошли любовь! Утверди, Господи, веру их. Растопи лед их сердец. Воскресни, Господи, в душах наших. Соедини нас во имя Твое. Господи! Помоги неверию нашему. Или… возьми… возьми меня к Себе… Не дай мне видеть этого страшного позора… Возьми…
О. Петр рыдал все громче. Все его тело судорожно вздрагивало. Он чувствовал, что облачение престола стало мокро от его слез. Но слезам как будто не было конца.
– Господи! Возьми, возьми меня к Себе…
– Батюшка, а батюшка! – раздалось вдруг над ухом о. Петра. – Да батюшка!! Господи, заспался что-то… Батюшка! К утрени пора! В Новоселках благовестят уже. И у нас все готово. Батюшка!
О. Петр вскочил со своей постели встрепанный, раскрасневшийся от волнения, потный.
Несколько секунд он, как пораженный громом, стоял неподвижно напротив церковного сторожа Прохорыча и не говорил ни слова.
Потом он порывисто перекрестился раз и другой. Оглянулся кругом, внимательно осмотрел Прохорыча и вдруг засмеялся веселым, радостным смехом.
– Так это, значит, сон! – вскричал он. – Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!
Он обернулся к иконам и опять перекрестился.
– Али сон худой приснился, батюшка? – спросил недоумевающий Прохорыч.
– И не говори! Такой худой сон… – отвечал о. Петр и побежал умываться. – Значит, сон, сон, – повторял он одно и то же, – слава Богу. Но какой же это был ужас! Какой ужас! Господи, благодарю Тебя! Это был сон… Да, конечно. Как же могло быть иначе? Разве это возможно в действительности? Безусловно нет. Это просто нелепо. Это совершенно невозможно. Этого никогда не может быть. Да. Да. Не может быть.
Отец Петр выглянул на площадь. Церковь была вся в огне и поднималась к небу, как одна колоссальная свеча. Вокруг церкви копошился и гудел народ. Собирались жечь смоляные бочки.
– Конечно, конечно, – торопливо говорил о. Петр, – ничего того не может быть. Не может быть. Такой праздник… Не может быть…
Когда о. Петр, одевшись, вышел на улицу, на него тепло и ласково пахнул весенний ветер. Слышался запах прелой земли и распускающихся почек. В мягком и влажном воздухе плавными, но упругими волнами колебались звуки торжественного, чистого благовеста в соседних селах.
– Как хорошо! – вырвалось у о. Петра. – Что может сравниться с этой ночью?
Войдя в церковь, о. Петр увидел горящие вензеля, алтарь, сияющий огнями и цветами. Изображение Воскресения все было увито цветами, белыми, розовыми, и казалось, что это Христос идет по цветам в саду Иосифа Аримафейского, чтобы сказать Магдалине и прочим:
– Радуйтеся!
О. Петр начал службу с особым подъемом чувства, с каким-то необычным трепетанием в груди. Он пред своими глазами видел все то, чего так беспомощно искал в кошмарном сне. Радость его была беспредельна и слышалась в каждом звуке его голоса, виделась в каждом его движении. Ответным аккордом эта радость о. Петра поднималась со глуби сердец богомольцев.
Когда после пения пред закрытыми дверями о. Петр вошел в искрящуюся огнями, наряженную цветами, блистающую церковь, до пафоса напряженным голосом возгласил: «Христос воскресе!» – религиозное возбуждение народной массы достигло апогея.
– Воистину, воистину воскресе, – гудела и ревела она, – воистину!..
И в этом «воистину» было что-то стихийное, здесь выражалось что-то непобедимое, как всякая стихия, что-то вечное, не подлежащее умиранию. В этом стихийном «воистину» выливалось все лучшее, что есть в человеке, все подлинно человеческое и свыше человеческое, здесь духовное, божественное начало в человеке как бы облекалось плотью и костьми, принимало конкретные формы и становилось очевидным, осязаемым, реальным…
– Воистину!
– Христос воскресе! – еще и еще возглашал о. Петр под аккомпанемент ликующего пения.
В ответ ему еще и еще несся стихийный гул, заглушавший и голос о. Петра, и пение всего хора:
– Воистину, воистину!..
А о. Петр в этом гуле слышал свое собственное:
Не может быть… Не может быть…
И он служил с такой силой чувства, с такой любовью ко Христу воскресшему и с таким огнем священного воодушевления, как, казалось ему, никогда раньше.
– Как хорошо-то, батюшка, как хорошо, – прошептал сторож Прохорыч, подавая о. Петру в конце заутрени трисвечник, – как в раю… И солнце играет…
В глазах старика стояли слезы.
И о. Петр не удержался и заплакал. Но не теми слезами тоски и отчаяния, которыми он так недавно – казалось – плакал пред этим же престолом, а слезами детской радости и чистого восторга.
Неизвестный автор
Канун Пасхи
Из далекого прошлого
– Коля, не вертись под рукой… иди в детскую… увидишь завтра и пасхи и куличи! – уговаривает меня бабушка. Я не в силах удалиться от бабушки. Мне хочется посмотреть, как удалась наша маленькая миндальная пасха, рассыпчатая… как сама бабушка будет украшать ее изюмом, цельным миндалем, ког да выложит ее из сырницы на блюдце с голубенькими цветочками…
– Бабушка! – пристаю я к старушке. – Наша пасха рассыпчатая?
– Да, да, милый, рассыпчатая… Завтра будешь ее кушать и увидишь, теперь иди себе…
– И крест на ней будет?
– Будет и крест… изюмом его обложу…
– Изюмом?.. А писанки готовишь нам с Сашей?
– Видишь, горшочек на плите… там ваши писанки варятся в шелковых лоскутках… мраморные будут… яички маленькие, рябенькой шпанки, – говорит бабушка, обливая глазурью высокий кулич.
Эти сведения так радуют меня, что я опрометью бросаюсь на галерею. На галерее я никого не встретил и побежал во двор. У крыльца рылась в свежем песке сестра Саша и разговаривала сама с собой. Весной и летом она, бывало, по целым часам копается в песке и разговаривает вслух одна.
– Саша, знаешь что?.. У нас завтра будут мраморные яички от твоей рябенькой шпанки и… рассыпчатая пасха! Бабушка сказала… яички уже варятся в горшочке.
– Зачем взяли яички у моей шпанки? Зачем?.. – пищит Саша.
– Бабушка так захотела, бабушка!.. Захныкала-а! – крикнул я громко.
«Бум-бум-бум!» – загудел протяжно, густо в теплом воздухе колокол с высокой колокольни, и кругом разлилось что-то торжественное, радостное…
На широком дворе мне стало тесно, и я юркнул за калитку. Передо мной открылась Волга.
По всей поверхности ее то тут, то там плыли желтоватые льдины, шумно перешептываясь, собираясь толпою, наползая одна на другую; вдали синели уже свободные чистые воды родной реки; над нашим домом кружили ласточки, радостно тивикая: «тви, тви!» – точно кликали: «Весна, весна пришла, с теплом, с зеленью, радуйтесь, тви, тви!»
По улице двигался народ; в церковной ограде, на берегу самой Волги, на старых могилках толпами сидели старики, старушки и ребятенки, любуясь ледоходом, прислушиваясь к весеннему шепоту прибивающихся к берегу льдин. Я издали видел ласковые, добрые лица – и бегом направился туда.
– Андрей, Андрюша! – крикнул я смуглолицему мальчику, сыну нашего соседа. – Ты куда?
– А ты куда?
– В ограду.
– Ну, и я туда.
– У вас красили яйца?
– Как же… только мало… с десяток, поди, не больше… Мама бережет яйца-то… под наседку… для цыплят.
– А у нас куличей, Андрюша, пасок, яиц крашеных много готовит бабушка.
– А-а!.. у нас поросенка кололи… Гляди, какая рубаха-то… – И Андрюша обдернул предо мною свою новую, розовую рубашку.
– А пояс… хорош?
– Да-а, все хорошо! – ощупывал я розовую, цветочками рубашку Андрюши и голубой пояс с кисточками: – Хорошо-о!…
– Пояс-то тетка подарила… рубаху – мама… тятя обещал картуз, да не привез пока из города… продержали, вишь долго на базаре… ну, лавки-то и заперли… потом привезет, как поедет опять в город…
– Ты спать будешь в эту ночь?
– Разве это можно?.. Грех… Подожду, когда Христос воскреснет… похристосуюсь со всеми, там и спать…
– Грех спать?