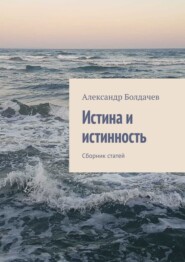
Полная версия:
Истина и истинность. Сборник статей
Темпоральная сложность
С «размазанными» по времени, распределенными во времени объектами мы встречаемся довольно часто, но просто не задумываемся о том, что они именно таковы – не локализованы в здесь и сейчас (в отличие от привычных вещей). Посмотрите на экран своего телевизора – на нем в каждый момент времени какая-то конкретная картинка. Ее можно сфотографировать. А теперь зададим себе вопрос, а в каком виде доставляется эта картинка до телевизора? Ответ прост: в распределенном во времени. По ходу передачи ее нет в «сейчас» ни одного из «здесь». С технической стороны все просто: была исходная картинка, некоторая пространственно и временно локализованная графическая структура, ее перевели в структуру, распределенную во времени, а потом опять трансформировали в пространственную. Имелась пространственная сложность, ее преобразовали в распределенную во времени, а потом опять в пространственную. Если в момент передачи сигнала от телестудии до телевизора мир остановить, зафиксировать во времени, то относительно некоторой точки «здесь», часть сложности картинки окажется уже в будущем, а часть – в прошлом. К таким, распределенным во времени, объектам следует отнести и музыкальную мелодию: в момент времени нет не только самой мелодии, а и отдельных нот (они фиксируются на отрезке времени длительностью более полуволны колебания). И характеристики мелодии, такие, как тональность, ритм, размер, в отличие от параметров вещей, определяются только на некотором промежутке времени, они принадлежат распределенному во времени объекту (мелодии целиком или ее фрагменту), не могут быть зафиксированы в здесь и сейчас.
Ранее, когда отмечалось, что фиксация состояния всех частиц тела биологического организма не дает нам описания живого объекта, то констатировался именно факт несводимости сложности организма к его пространственной структуре, утверждалось, что живая составляющая организма запрятана именно в распределенной во времени сложности протекающих в нем процессов. То есть биологический организм может быть признан живым только в том случае, если рассматривается как распределенный во времени, обладающий размазанной по времени сложностью, принципиально не сводимой к пространственно-структурной. Именно эту распределенную во времени сложность теряет организм в момент смерти, превращаясь в простую пространственную вещь. Естественно, что и человеческая деятельность, социумные институты, ментальные, духовные объекты могут быть описаны только как системы с распределенной во времени сложностью, которая не может быть зафиксирована в моментальных пространственных срезах.
Итак, логика рассуждений вернула нас к исходной проблеме противопоставления вещного и событийного мышления, выбора описания объектов через состояния или как системы событий, к проблеме определения границ пространственного и темпорального (назовем его так) анализа. Ответ, надеюсь, очевиден. Если сложность объекта возможно свести к пространственной (кристалл, механизм), то необходимо представлять его как вещь и описывать в классической для науки схеме через смену мгновенных состояний. Если объект не фиксируется как пространственная структура, а следовательно обладает распределенной во времени, темпоральной сложностью, то он не может мыслиться в традиционных для науки понятиях (положение, траектория, состояние), а требует применения принципиально нового подхода – событийного, темпорального.
Сейчас
Сопоставляя пространственную и темпоральную (распределенную во времени) сложности, мы говорим не об устройстве мира, а в большей степени о формах его восприятия и даже, что точнее, о способах описания. Понятно, что ту же картинку на экране телевизора можно представить и как последовательность событий развертки, то есть как исключительно темпоральную, а телевизионный радиосигнал, в свою очередь, как длинную-длинную линейную пространственную структуру из точек с тем или иным электромагнитным потенциалом. То есть, в общем случае, выбор того или иного описания – пространственного (вещного) или темпорального (через последовательность событий) – зависит от фиксации масштаба «здесь» и «сейчас», выбора «габаритов» точки и мгновения.
До сих пор по умолчанию предполагалось, что формула «здесь и сейчас» интуитивно понятна: для обсуждения начальных моментов темпорального анализа было достаточно нашего человеческого понимания «здесь» как текущего положения в пространстве, как визуально данной картинки окружающей действительности, а «сейчас» как настоящего момента времени, в котором фиксируется эта картинка. Однако приведенный пример с телевизионным изображением демонстрирует, что «сейчас» понятие относительное, то есть зависит от точки зрения, уровня рассмотрения: при выборе одномоментного среза мира относительно восприятия человека телевизионная картинка представляется как пространственная структура, а при фиксации момента времени относительно работы системы развертки телевизора объект «картинка» описывается как поток событий. Наиболее ярко относительность понятия «сейчас» можно показать на примере работы компьютера: мы можем говорить о «сейчас» события на экране, но при этом понимать, что в это «сейчас» втиснуто много-много «сейчас» операций программы высшего уровня, а каждая текущая операция этой программы включает в себя тысячи «сейчас» команд процессора, а последние составляются из «сейчас» атомарных событий в полупроводниковом кристалле. И сам этот кристалл, с одной стороны – для классической физики, – может представляться как вещь, обладающая фиксированной пространственной структурой и локализованными по времени параметрами (твердостью, температурой и пр.), но с другой – на уровне взаимодействия элементарных частиц, – должен описываться как поток событий.
Здесь следует отметить, что приведенные примеры (кристалл, мелодия, преобразование телевизионного сигнала) призваны только подготовить нас к необходимости введения такого понятия, как распределенная во времени (темпоральная) сложность. На этом уровне, по сути, еще нет познавательной проблемы. Ну преобразовали картинку в поток событий, а потом опять собрали ее на экране в пространственную структуру. А исходно распределенную во времени мелодию, наоборот, можем записать в виде пространственной структуры закорючек на листе, чтобы другие потом могли вновь и вновь воспроизводить ее темпоральность. Проблемы начинаются, когда мы обращаемся к анализу более сложных систем – биологических, психологических, социумных.
Давайте опять поговорим о такой системе, как «биологическая клетка», но уже имея представление об относительности «сейчас». Тут полезно ввести такое понятие, как «характерное время», фиксирующее временные промежутки, на которых выявляются отношения на том или ином уровне: физическом, химическом, биологическом. Так вот, если мы выберем масштаб «сейчас», соотносимый с характерным временем химических взаимодействий, то живая клетка предстанет перед нами как поток химических событий, в котором мы не найдем ни намека на какую-либо биологию. Только обменные взаимодействия молекул, не более. То есть берем химическое «сейчас» – и через эту узкую щель видим только химию. Аналогично и работа компьютера на уровне «сейчас» кодов процессора выглядит лишь как последовательность элементарных операций с нулями и единицами (чтение, запись, сдвиг, суммирование). И никаких функций, циклов, операторов программ высшего уровня. Не говоря уже о картинке на экране, на которой, скажем, демонстрируется презентация о делении клетки. Понятно, что картинку/презентацию мы имеем на совсем другом уровне, характерное время которого включает в себя миллионы «сейчас» кодов процессора. Но мы отвлеклись от клетки. Так вот, химическая сложность клетки фиксируется именно как размазанная/распределенная по времени на масштабах характерного времени химических взаимодействий, а для фиксации биологических феноменов, биологической сложности необходимо подняться на уровень выше, выбрать другой масштаб времени, а по сути, расширить «сейчас». Фактически это означает, что та сложность, которую мы называем словом «жизнь», заметна только как распределенная на растянутом во времени потоке множества химических событий, то есть как темпоральная сложность.
Вот тут-то мы и уперлись в необходимость смены вещного мышления на событийное, темпоральное. Если на уровне физики и частично химии науке удавалось представить новую сложность как наращивание пространственной структуры – частица к частице, атом к атому, вот и молекула вырисовалась – то для описания жизни такая схема уже не годится: ну не удается запихнуть всю сложность в пространственные границы. Биологический организм – это не пространственное тело и не некий химический процесс, а темпоральная структура, распределенная на огромном потоке химических событий. Живые объекты складываются не из пространственных, а из темпоральных частей. Организм – это темпоральная система, сложность которой лишь частично представлена в виде локализованной в пространстве структуры.
Завершая разговор о «сейчас», хотелось бы особо обратить внимание на факт его («сейчас») неточечности. «Сейчас» – это не пустой миг между прошлым и будущим, а некий зазор между ними, промежуток, вмещающий в себя много-много «сейчас» низших уровней. Представьте, сколько «сейчас» на уровне кодов процессора вмещается в «сейчас» экранного изображения. Так и то, что мы на своем человеческом уровне называем моментом времени, фиксируя в нем картинку своей действительности, с необходимостью вмещает в себя миллиарды физиологических, химических, физических «сейчас», которые мы просто не различаем. Можно сказать, что мы – наше сознание – обладаем некой рассредоточенностью во времени, событийно насыщенной темпоральностью, которая, правда, дана нам во времени как единое «сейчас». Что и понятно – так сознание дано в сознании.
Событийная парадигма
В небе что-то летело. Один сказал «демон». Другой – «НЛО». И тут летящее пропало. Оба сказали «пропал». Мораль: они видели разное, пытаясь разглядеть вещь, но на уровне событий у них разногласий не возникло. Тут следует сделать уточнение, что речь идет не о происшествии («пропал демон»), а именно о событии («пропал») – о нечто элементарном, не нагруженном никаким дополнительным смыслом, просто об изменении, переходе, без уточнений от чего к чему.
По сути, прямо сейчас на этом примере с демонами, пропустив множество заумных пояснений, мы можем прийти к пониманию, что именно событие претендует на роль не только минимально различимого, но инвариантного элемента наших восприятий. У события, если уж мы его выделили в своей действительности, нет структуры. Иначе мы бы различили много событий, а не одно (понятно, что мы можем знать о сложности события, но здесь разговор идет именно о непосредственном восприятии, а не о мышлении). И самое примечательное, что у события нет никаких предикатов. Оно само себя определяет: «пропало», «появилось» («появилось медленно» – это уже не о событии, а об совокупности событий – процессе), «повернуло» («повернуло налево» – описано не событие, а направление траектории движения: в самом событии «повернуло», в точке поворота, нет никакого направления). Да, событие можно не различить вообще (ну, не видел кто-то ничего летящего, так и события «пропало» для него нет), но если уж событие различено, то спорить тут нечего: невозможно «пропало» спутать с «появилось». А вот демона с НЛО – запросто.
И тут мы делаем еще один скачок в мышлении, хотя и подготовленный всеми предыдущими рассуждениями: любую вещь мы можем разложить на события. Но конечно, мысленно, а не в непосредственном восприятии – наше «сейчас» не позволяет нам различать элементарные события в диапазонах характерных времен химического и физического уровней, они (события этих уровней) для нас сливаются, слипаются в вещи. Но мысленно-то мы можем представить самый нижний уровень «сейчас», на котором нет никаких вещей, а только последовательность событий переходов, даже непонятно от чего к чему – просто поток элементарных событий. Вот этот особый взгляд на мир как на поток элементарных событий и следует назвать исходным для событийной, темпоральной онтологии или, если хотите, парадигмы. А вещи? А вещи – это лишь структурированные фрагменты потока событий. Они воспринимаются как целостности только вследствие малой разрешающей способности нашего «сейчас». Вот и слипаются они в единое событие своей пространственной данности в нашем «здесь».
Пониманию этого нам опять может помочь компьютерная аналогия. Что такое «мир» компьютера на элементарном (процессорном) уровне? Непрерывный поток элементарных событий: 0100100100010010010… И ничего больше. Но на другом уровне – уровне интерфейса – некоторые последовательности этого потока смотрятся как вполне себе вещи: буквы, герои игры, ноты. И что мы делаем, когда хотим изменить эти вещи? Правильно, добавляем в исходный поток новые события. Итак, перед нами только события: системы событий (вещи) и события изменения систем событий, из которых на уровне интерфейса могут быть сформированы новые вещи. Особо зафиксируем: никаких вещей на уровне элементарного потока нет – они возникают только при приложении к этому потоку шаблонов (которые, кстати, сами являются структурами этого потока). Понятно, что из одного и того же фрагмента потока событий при наложении разных шаблонов могут быть выделены разные вещи (демон и НЛО). Это справедливо и для компьютера, и для нашего мира. В потоке элементарных событий, как на испещренной трещинами стене, мы можем разглядеть/выделить/оформить в вещь только то, о чем у нас есть представление как о вещи, для чего у нас есть шаблон. Как можно было разглядеть НЛО в средние века? Никак. Летала только исключительно всякая нечисть.
Тут самое время вернуться к нашим баранам, то есть к биологическим организмам. Как мы их должны представить в рамках событийной парадигмы? Элементарно. Как и все, что мы в нашей действительности хотим выделить/различить как целостность: описать как некоторую структуру на потоке элементарных событий. И кристалл и живая клетка – это системы событий. Разница лишь в том, что все события, составляющие систему кристалл, «упакованы» так, что полностью вписываются в наше человеческое «сейчас» – вещи мы воспринимаем в нем целиком, сразу. А вот событийная структура живой клетки сложнее, насыщеннее, не втискивается в границы нашего «сейчас», не обозревается одним взглядом – она для нас распределена во времени. Да, конечно, мы видим клетку и другие биологические организмы как пространственно определенные вещи – тела. Но теперь нам понятно, что тело есть лишь часть системы «биологический организм», только ее фрагмент, который вписался в наш пространственно-временной шаблон, а сама система темпорально шире, обладает сложностью (событийной насыщенностью), превосходящей сложность пространственной структуры тела. Живой, биологической является вся система, а не ее пространственное, телесное отображение в нашем «сейчас».
Ну вот на этом, наверное, можно и остановиться, закончить очередной, в некоторой степени популяризационный, подход к введению понятия «темпоральная сложность», к очерчиванию структуры темпоральной парадигмы (предыдущие попытки см. в книгах «Новации» (2007), «Темпоральность» (2011), в видеозаписях докладов и семинаров). Это было именно обозначение темы, указание направления мышления. Об иерархии темпоральных систем, о понимании эволюционных новаций как редукции темпоральной сложности, об инволюции и деволюции, о нисходящей причинности и трансреальных эффектах читайте в существующих публикациях. О темпоральной концепции сознания, а также о темпоральной этике, предлагающей сместить фокус внимания с обладания вещами на использование их функций, с оценочных предикатов на содержание событий, с пространственных границ на свое присутствие во времени, читайте в последующих публикациях.
Введение
в темпоральную онтологию
Год написания: 2014
Кто сегодня делает философию в России. Том III / Автор составитель А. С. Нилогов. – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2015 – 736 с.
Этот текст является кратким систематизированным изложением релятивистской темпоральной онтологии [2: 136—166], главная цель которой – преодоление дуалистического подхода к описанию мира, унификация этого описания для различных онтологических регионов (физического и ментального), решение проблемы каузальных отношений этих регионов. В основу онтологии легла натурфилософская концепция распределенных во времени систем, предложенная автором [3: 181—233] для решения проблемы возникновения новой сложности в эволюционирующих системах. В концепции вводится представление о нелокализованной в пространстве сложности распределенных во времени систем, не фиксируемой в одномоментных срезах мира. Это дало возможность представить формирование эволюционных новаций (включая творческие) как редукцию распределенной во времени сложности в пространственную структуру. Впоследствии распределенную во времени сложность было предложено обозначать термином «темпоральность»1.
Темпоральная онтология развивается в русле трех философских концепций: событийной онтологии Рассела, нейтрального монизма (Мах, Джемс, Рассел) и философского релятивизма.
Релятивизм
Релятивизм в общем случае (в науке, философии) устанавливает вполне тривиальный методологический принцип, согласно которому для фиксации любой определенности, любого суждения безусловно необходима система координат – точка зрения, точка отсчета. Исходным принципом релятивизма является утверждение, что среди неконечного множества таких систем координат не может быть одной выделенной, абсолютной. Следует особо подчеркнуть, что основным тезисом релятивизма является не лозунг «все относительно», а утверждение «все существует только относительно чего-то». Философский релятивизм следует понимать как позицию, с которой констатируется относительность любых философских построений, их рядоположенность, невозможность какими-либо рациональными способами выделить из множества философских систем одну привилегированную. Но нас больше будет интересовать не «внешний» релятивизм, устанавливающий отношения между различными философскими концепциями, а релятивизм в границах одной философской системы, одной онтологии, утверждающий, что внутри нее не может быть задана некая привилегированная позиция, некий выделенный онтологический уровень, однозначно и строго разделяющий объекты на два или более типов, скажем, на феномены и ноумены2. Речь идет не о полной унификации объектов, а о соблюдении релятивистского принципа, согласно которому любое онтологическое разделение не может быть абсолютным, а допустимо только относительно некоторой системы координат.
В качестве такой системы координат, такого подвижного уровня, относительно которого предлагается фиксировать статус объектов, в релятивисткой онтологии принимается субъект. Причем в качестве субъекта предлагается рассматривать не только разумный, самосознающий субъект, но и любой другой субъект, различающий в своей действительности объекты. То есть наравне с субъектом-человеком мы должны говорить о субъекте-электроне, чья действительность состоит из других электронов, атомов, молекул, о субъекте «живая клетка», чье объектное окружение составляют молекулы, другие клетки, организменные системы и пр. Итак, следуя принципу релятивизма (а точнее, логично вытекающему из него принципу антиантропоцентризма), в предлагаемой темпоральной онтологии не устанавливается фиксированный уровень субъекта – в качестве субъекта, по сути, может рассматриваться произвольный объект.
Нейтральный монизм
и универсум событий
Вполне естественно, что указанный релятивистский принцип (отсутствие фиксированного уровня субъекта) несовместим с какой-либо формой дуализма, допускающего два несводимых друг к другу начала, проводящего однозначную границу между физическим и ментальным, то есть разделяющего сущее на два жестко противопоставленных онтологических региона. Однако релятивистскую онтологию нельзя рассматривать и как традиционно монистическую, признающую лишь одно начало, одну субстанцию (скажем, Бога или материю). Такие концепции с позиции релятивизма следует рассматривать как частные предельные случаи, реализующиеся при смещении уровня субъекта в одну из крайних точек, в позиции элементарного или абсолютного субъектов.
Из существующих подходов к построению глобальной онтологии наиболее совместим с релятивизмом нейтральный монизм, констатирующий, что в основе любых различаемых субъектом объектов – и феноменов, и ноуменов – лежит некая единая субстанция, сама по себе не являющаяся ни физической, ни ментальной. Именно такая нейтральная концепция не позволяет исходно, до и вне указания уровня субъекта, фиксировать статус объектов – нейтральность которых нарушается только в действительности конкретного субъекта. В развитие идеи одного из главных идеологов нейтрального монизма Расселом в темпоральной онтологии в качестве такой нейтральной субстанции предлагается рассматривать множество всех возможных событий – универсум событий. То есть принимается принцип «все в мире состоит из событий» [8].
Событийные онтологии
Близкими к описываемому онтологическому подходу можно считать философию жизни Бергсона и философию процесса Уайтхеда («Природа есть структура развёртывающихся процессов. Реальность есть процесс.» [9: 130].). Приоритетную значимость события/факта утверждал в «Логико-философском трактате» и Витгенштейн («Мир – целокупность фактов, а не предметов. … Происходящее, факт – существование со-бытий» [4]). Правда, Витгенштейн, рассматривал событийность как логическую связанность вещей, а не как онтологическую основу для самого их существования. Особое внимание событиям как отдельно существующим сущностям уделял в своей теории действия Дональд Дэвидсон [11]. Однако «аномальный монизм» Дэвидсона, утверждающий несводимость ментальных событий к физическим, плохо совместим с нейтральным монизмом и релятивизмом. К тому же, к изучению событий Дэвидсон подходил со стороны логического анализа языка. Безусловно, следует упомянуть и онтологии события, развиваемые в философской линии Хайдеггер [10] – Делез [5] – Нанси [7] – Бадью [1], проходящей в плоскости со-бытийности языка и ситуативности истории, то есть несколько в стороне от чистого онтологизма Рассела.
Следует особо отметить, что близкий по идеологии и логике к предлагаемому подход – но ориентированный на физико-теоретическое описание – развивает в своей темпоральной модели реальности А. М. Заславский [3]. Идея универсума событий также чем-то близка и к так называемой бутстрап-концепции, предложенной физиком Джеффри Чу в 70-х годах прошлого века, основу которой составляет отказ от постулирования каких-либо субстанциональных (материальных) и логических первоначал Мира и представление последнего как паутины взаимосвязанных событий.
Вещная онтология
Традиционным для современного человека – и в быту, и в науке, и в философии – является вещное мышление, для которого свойственно описание мира как множества пространственно локализованных объектов-вещей. Сами вещи определяются через совокупность предикатов, присваиваемых им в разные моменты времени, то есть через последовательность состояний. Событие в вещной онтологии трактуется как изменение вещи, как переход ее из одного состояния в другое. Описание мира, по сути, сводится к построению пространственной (матрешечной) иерархии: вещи составляются из вещей поменьше – деталей, частей, а те из молекул и так до элементарных частиц. Причем вопрос «из чего состоят самые элементарные из элементарных?» остается открытым. У вещного описания, наряду с очевидными преимуществами (простота, прагматичность, эффективность при описании физических объектов) имеются и очевидные проблемы. Во-первых, это ограниченная масштабируемость: матрешечное описание теряет свою однозначность на уровне выше косных вещей – уже биологический организм трудно свести к структуре молекул, а социумные, ментальные, духовные объекты вообще невозможно вписать в вещно-пространственную иерархию. Во-вторых, матрешечная иерархия вещного подхода необходимо подразумевает редукционистское мышление, предлагающее сводить понимание целого (вещи) к описанию его частей. И если для физики и химии это вполне срабатывает, то на уровне живого мы опять же наблюдаем стопор: не получается описание биологической системы на языке химических формул, что уже говорить о психическом и ментальном. В целом, можно сказать, что дуалистические онтологии, придерживающиеся дихотомии физического и ментального, являются непосредственным продуктом вещного мышления.
События
Следует отметить, что вышеперечисленные онтологии событий и процессов (кроме онтологии Рассела), хотя и предлагают взглянуть на Мир с другой, не вещной позиции, акцентировать внимание не на самих пространственно определенных вещах, а на их отношениях во времени, все же не отказываются от самой идеи вещи как «носителя» этих самых событий и процессов. В них констатируется, что мы живем в мире событий, для нас важно именно то, что происходит, мы реагируем именно на изменения, а не на вещи, вещи лишь обеспечивают, поддерживают событийность, служат субстратом событий, и наша деятельность описывается именно как система событий, а не набор вещей. И это тем более бесспорно, если речь идет о таких деятельностях, как мышление, познание. Обобщая логику упомянутых событийных онтологий, следует заключить, что вещь может быть понята только как система событий: событий ее появления и исчезновения, различения ее предикатов, включения в мышление. Вещь при этом приобретает смысл только в событии, только как элемент деятельности – целенаправленного потока событий.



