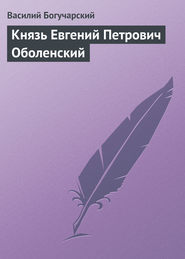 Полная версия
Полная версияКнязь Евгений Петрович Оболенский

Василий Богучарский
Князь Евгений Петрович Оболенский
«Молодой человек, благородный, умный, образованный, пылкий; увлечен был в заговор Рылеевым».
Так характеризует князя Е. П. Оболенского в своей книге «Записки о моей жизни» известный Н. И. Греч. В этой характеристике все, касающееся умственных и нравственных качеств Оболенского, совершенно справедливо; в сообщаемом же Гречем сведении об Оболенском фактического характера («увлечен был в заговор Рылеевым») нет, по гречевскому обыкновению, и следа правды, ибо, как это будет видно ниже, Оболенский вступил в тайное общество на пять лет раньше Рылеева.
То же самое можно сказать и об относящихся к Оболенскому строках в автобиографических записках А. Д. Боровкова.
Характеризуя разных членов тайных обществ, Боровков, между прочим, говорит:
«Поручик князь Оболенский. Деловитый, основательный ум, твердый, решительный характер, неутомимая деятельность в достижении предположенной цели – вот свойства Оболенского. Он был в числе учредителей Северного Общества и ревностным членом Думы. Сочинение его в духе Общества, об обязанностях гражданина, служило оселком для испытания к принятию в члены, смотря по впечатлению, какое производило оно на слушателя. Оболенский был самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рылеева, виновником мятежа в Петербурге. За неприбытием Трубецкого на место восстания, собравшиеся злоумышленники единогласно поставили его своим начальником. Так свершить государственный переворот доставалось в удел поручику. Когда военный генерал-губернатор граф Милорадович приблизился к возмутившимся и начал их увещевать, Оболенский, опасаясь влияния знаменитого, храброго полководца, ранил его штыком в правый бок; он также ударил саблею полковника Стюрлера. Такие злодеяния не были, однако, плодом отчаянного неистовства; рукою его водил холодный расчет устранить препятствия в успехе предприятия»[1].
Фактическая сторона и этих сведений об Оболенском не отличается точностью: штыком Оболенский колол, повидимому, только лошадь Милорадовича, дабы заставить всадника удалиться, а в нанесении удара Стюрлеру совсем не был повинен. Стюрлер пал 14 декабря от пули П. А. Каховского.
Не взирая на ту несомненно важную роль, которую играл Оболенский в общественно-политическом движении второго десятилетия XIX века и самом событии 14 декабря 1825 года, биографических сведений об этом деятеле сохранилось, к сожалению, очень не много. Даже в написанных самим Оболенским, прилагаемых здесь же, «Воспоминаниях», как увидит читатель, содержится об этом предмете очень мало указаний.
По происхождению Евгений Петрович принадлежал к древнему аристократическому роду. У него было несколько братьев, из которых один (Константин Петрович) также несколько пострадал за прикосновенность к заговору: он был «выписан» из гвардии тем же чином в 45-й егерский полк[2]. Образование Евгений Петрович получил чисто светское, владел прекрасно французским, немецким и английским языками и начал свое жизненное поприще службою в гвардии. Вскоре он был назначен старшим адьютантом к командующему всею пехотою гвардейского корпуса, генерал-адьютанту Бистрому. Все сулило молодому князю блестящую карьеру. Но не ветренная и рассеянная жизнь гвардейского офицера привлекала внимание Оболенского. В нем очень рано пробудились самые серьезные запросы теоретического характера и вдумчивое отношение к царившей в России неприглядной действительности. Молодой офицер горячо интересуется вопросами философскими, религиозными, этическими, общественными и стремится приложить выработанные убеждения к практической жизни. В 1816 году возникает среди гвардейских офицеров известный «Союз Благоденствия», и не более чем через год, в числе его членов находится и князь Оболенский. Вот строки, которыми характеризует «Союз» сам Оболенский в своих «Воспоминаниях», написанных им в 1856 году в г. Ялуторовске Тобольской губернии и появившихся в печати в 1861 году:
«Трудно было устоять против обаяний Союза, которого цель была нравственное усовершенствование каждого из членов, обоюдная помощь для достижения цели, умственнное образование, как орудие для разумного понимания всего, что являет общество в гражданском устройстве и нравственном направлении; наконец, направление современного общества посредством личного действия каждого члена в своем особенном кругу, к разрешению важнейших вопросов, как политических общих, так и современных, тем влиянием, которое мог иметь каждый член и личным своим образованием, и тем нравственным характером, которые в нем предполагались. В дали туманной, недосягаемой виднелась окончательная цель, – политическое преобразование отечества, – когда все брошенные семена созреют и образование общее сделается доступным для массы народа»[3].
Таким образом «Союз», по словам Оболенского, представлял Общество, носившее почти исключительно этико-культурный характер. Это, однако, не совсем точно. Уже сам Оболенский говорит, что окончательной целью Союза, хотя целью, мелькавшею «в дали туманной, недосягаемой», – являлось «политическое преобразование отечества». Далекая цель выдвигала неизбежно и цели более близкия, служившие для неё этапами. Александр Муравьев прямо перечисляет те пункты, воплощение которых в жизнь входило в программу Союза. Таких пунктов он насчитывал десять, а именно: 1) уничтожение крепостного права; 2) равенство всех граждан пред законом; 3) публичность государственных дел; 4) гласность судопроизводства; 5) уничтожение винной монополии; 6) уничтожение военных поселений; 7) улучшение судьбы защитников отечества («Amélioration du sort des défenseurs de la patrie»); 8) сокращение срока военной службы; 9) улучшение положения духовенства; 10) сокращение цифры армии для мирного времени[4].
Как этическая, так и политическая стороны программы Союза были живо восприняты Оболенским, и он явился одним из деятельнейших членов тайной организации. Не довольствуясь пропагандой идей Союза и приемом в него новых членов, Евгений Петрович стремился завести и отдельные от него кружки или так называемые «Вольные Общества». Так, вместе с коллежским ассессором Токаревым он организовал Вольное Общество в л. – гв. Измайловском полку[5]. (Другое такое же Общество было организовано офицером л. – гв. Измайловского полка Семеновым).
Сторонники необходимости политического преобразования России находились, как известно, главным образом с одной стороны, в гвардии (в Петербурге), с другой – во второй армии (на юге России). Между теми и другими не было полной солидарности во взглядах. Южане отличались от северян, как гораздо большею демократичностью своей программы (там возобладали республиканские идеи, а глава южан, полковник П. И. Пестель, шел еще дальше и тщательно обсуждал с другими заговорщиками социально-экономические моменты предстоящего переворота), так и несравненно большею энергиею в стремлении к достижению предположенных целей путем революции. Принципиальные разногласия, в связи с некоторыми другими обстоятельствами, повлекли за собою созыв в 1821 году в Москве съезда делегатов от северян и южан, на котором после продолжительных прений было постановлено закрыть Тайное Общество. Это было сделано, однако, только для видимости, дабы отделаться такт путем от некоторых ненадежных членов, а на деле организация продолжала существовать. Только вместо единого в организационном отношении Общества (по крайней мере, единого de jure), их возникло с этого времени два, – Северное и Южное, – и они начали действовать независимо одно от другого. Кроме того, со времени московского съезда, вопросы о непосредственной политической деятельности, вопросы революционного переворота выступили и в Северном Обществе на первый план, оттеснивши, так сказать, собою, прежния задачи более мирного свойства. Независимость двух Обществ не исключала, конечно, многих тесных отношений между северянами и южанами и оказывания ими друг другу важных услуг.
В числе первых же членов Северного Общества явился князь Оболенский. Оно образовалось окончательно в исходе 1822 года и приняло, по словам «Донесения следственной комиссии», такую организацию:
«Его разделяли на «Убежденных» и «Соединенных» или «Согласных». Союз Убежденных, или Верхний круг, составлялся из основателей; принимали в оный и других из Союза Соединенных, но не иначе, как по согласию всех, находившихся в Петербурге, «Убежденных». Сие согласие было нужно и для принятия какой-либо решительной меры. Сверх того, Верхний круг имел следующие права: он избирал членов Думы или Совета, управляющего Обществом, дозволял принятие нововступающих, требовал отчетов от Думы. Ненаходящийся в оном член мог принять не более двух и согласие на то испрашивал чрез члена, коим был сам принят; сей последний также, если не был в числе Убежденных; сие согласие через такую же цепь доходило от Думы до принимающего новых членов. Сих сначала испытывали, готовили, потом открывали им мало-помалу цель Тайного Общества, но о средствах для достижения оной и о времени начатия действий должен был иметь сведения один Верхний Круг.
«Возобновив Тайное Общество, начальником оного несколько времени признавали одного Никиту Муравьева; потом в конце 1823 года, решась для лучшего успеха иметь трех председателей, присоединили к нему князя Сергея Трубецкого, лишь возвратившагося из заграницы, и князя Евгения Оболенского. Через год после того первый отправился в Киев с надеждою, что, будучи в штабе 4-го корпуса, он может иметь сообразное с планами злоумышленников влияние на войска оного… На место князя Трубецкого, сделан членом Директории, или Думы, Рылеев, который настоял, чтобы впредь сии Директоры или Правители, были не бессменными, а избирались только на один год»[6].
Таким образом уже с 1823 года поручик л. – гв. Финляндского полка князь Е. П. Оболенский стоял вместе с капитаном генерального штаба H. М. Муравьевым, полковником л. – гв. Преображенского полка князем С. П. Трубецким и известным поэтом К. Ф. Рылеевым во главе всего Северного Общества[7].
Дела в Петербурге шли, однако, по прежнему с меньшим успехом, чем на юге. Там организовано было уже такое количество сил непосредственным приемом в Общество новых членов, их влиянием на расположение умов во всей второй армии, слиянием с самопроизвольно возникшим на юге тайным «Обществом Соединенных Славян» и договором с Тайными Обществами в Польше, что стоявшие во главе заговора полковник П. И. Пестель, генерал-интендант А. П. Юшневский и подполковник С. И. Муравьев-Апостол считали возможным приступить к восстанию в самом близком будущем. Содействие Северян в смысле одновременности начала действий было, конечно, необходимым, и Пестель делал несколько попыток снова слить оба Общества в одно единое целое. С этою целью он посылал в Петербург для переговоров с северянами безусловно преданных ему людей, – сначала поручика князя А. П. Барятинского, потом генерал-маиора князя С. Г. Волконского и, наконец, в 1825 году ездил туда же сам. Принципиальное различие во взглядах и недоверие, которое питали к Пестелю некоторые северяне, видевшие в нем, по словам «Донесения», «не Вашингтона, а Бонапарте», мало подвинули вперед это предприятие. Вышецитированное «Донесение» изображает эти события так: «В 1823 году Поджио видел в Петербурге князя Барятинского и письмо, которое он привозил от Пестеля к Никите Муравьеву. Пестель спрашивал о числе членов, успехах Северного Общества, готовы-ли в Петербурге к возмущению и прибавлял: les demi-mesures ne valent rien; ici nous voulons avoir maison nette (полумеры ничего не стоят; здесь мы имеем в виду действовать во всю). «Как, – вскричал Никита Муравьев, – они там Бог весть что затеяли: хотят всех». Князь Барятинский требовал решительного ответа. Никита Муравьев объявлял, что их намерение «commencer par la propagande», но им (Никитою Муравьевым), как утверждает в своих показаниях Поджио, иные в Петербурге были недовольны, хуля его за медлительность, бездействие, холодность. В числе тех, кой желали скорых мер, не ужасаясь злодейства, Поджио именует Митькова[8], который на свидании у Оболенского сказал ему: «я с вашим мнением о погублении всей Императорской Фамилии согласен совершенно до корня», князя Валериана Голицына[9], повторившего слова Митькова, Рылеева, «исполненного отваги», как говорит показатель, но хотевшего действовать на умы сочинением возмутительных песен и «Катехизиса свободного человека», и, наконец, Матвея Муравьева-Апостола»[10]. Дело соединения Обществ не кончилось ничем.
В 1825 году с этою же целью, как сказано, приезжал в Петербург сам Пестель и собрал на совещание главнейших членов Северного Общества. На этом собрании, по словам Никиты Муравьева, он, «при князе Трубецком, Оболенском, Николае Тургеневе[11], Рылееве, Матвее Муравьеве-Апостоле жаловался на деятельность Северного Общества, на недостаток единства, точных правил, на различие устройств на севере и юге. В Южном Обществе были «Бояре», в Северном их не было. Он предлагал слить оба Общества в одно, назвать «Боярами» главных из петербургских членов, иметь одних начальников, все дела решать большинством голосов, обязать их и прочих членов повиноваться слепо сим решениям. Предложение было принято, как сказал князь Трубецкой Никите Муравьеву, который не был на сем собрании. «Мне это весьма не понравилось, – говорит Муравьев, – и когда вскоре затем Пестель пришел ко мне, то у нас началось прение. Пестель говорил, что надо прежде всего истребить всех членов Императорской Фамилии, заставить Сенат и Синод объявить наше Тайное Общество Временным Правительством с неограниченною властью, принять присягу всей России, раздать министерства, армии, корпуса и прочия места членам Общества, мало-помалу в продолжение нескольких лет вводить новый порядокъ». Вследствие сего разговора Никита Муравьев на другом собрании Общества доказывал, что совершенное соединение их с Южным невозможно по дальности расстояния и по несходству во мнениях[12]. Его слова подействовали. Пестель должен был согласиться оставить все в прежнем виде до 1826 года, а тогда собрать уполномоченных для постановления правил и для избрания одних правителей в оба Общества. С тех пор он, видимо, охладел к главным петербургским членам, не показывал им доверенности и, хотя обещал прислать свой проект конституции, однакож не прислал и не входил ни в какие объяснения об устройстве и состоянии Южного Общества»[13].
В своем изложении обстоятельств заговора «Донесение», конечно, во многом неверно и пристрастно освещает дело, но общая картина положения вещей в 1825 г. на севере и юге, по свидетельству многих декабристов, представлена в нем более или менее удовлетворительно. Разногласия между двумя Обществами продолжались, но, тем не менее, можно сказать, что в 1826 году должно было последовать либо объединение обоих Обществ воедино, либо, – что еще вернее, – принятие на себя Южным Обществом самостоятельно революционной инициативы и начало им открытых действий для совершения переворота. Об этом самым серьезным образом думал Пестель и его главные сподвижники. Судьба решила иначе.
О существовании заговора император Александр подозревал уже давно, но точные об этом предмете сведения он получил лишь в конце своей жизни от графа Витта (имевшего их через посредство помещика Бошняка), капитана Майбороды и юнкера Шервуда. В ноябре 1825 года последовали крупные события: болезнь и смерть императора Александра, посылка Дибичем генерала Чернышева в Тульчин, арест полковника Пестеля, маиора Лорера и других заговорщиков на юге России. Пестель был арестован – 14 декабря 1825 пода, т. е. в тот самый день, когда в Петербурге произошло предпринятое Рылеевым, братьями Бестужевыми, Оболенским и их друзьями возмущение части гвардии на Сенатской площади.
Декабрьских событий в Петербурге мы коснемся здесь лишь настолько, насколько это необходимо для обрисовки роли в них Е. П. Оболенского… Известие о смерти Александра и приказании приносить присягу императору Константину застали петербургских заговорщиков совершенно врасплох. За необходимость предпринимать немедленно в таких обстоятельствах какое-либо активное движение не высказался на собраниях заговорщиков решительно никто. Мало того: было даже постановлено приостановить на время всякую деятельность Тайного Общества. Но, вот, начали приходить одно за другим все новые и новые известия: завещание Александра, отречение Константина, нежелание его приехать из Варшавы в Петербург для публичного удостоверения этого отречения, междуцарствие, присяга другому императору. Такие обстоятельства показались деятелям Северного Общества весьма благоприятными для осуществления задуманной цели, и они начали готовиться с лихорадочною поспешностью к тому, чтобы воспользоваться самым днем присяги для совершения переворота. Квартиры Рылеева и Оболенского сделались центральными пунктами, откуда исходили все революционные импульсы. У Рылеева происходили почти беспрестанные, шумные собрания заговорщиков, и лишь патриархальными временами можно объяснить то обстоятельство, что Рылеев, Оболенский и их друзья не были арестованы прежде, чем они успели привести в исполнение свои замыслы[14]. Новый император, хотя и получил из Таганрога от Дибича некоторые указания на существование заговора, но, в сущности, знал еще очень мало о надвигающейся буре, и лишь донос о том со стороны одного из личных друзей Оболенского, заставил Николая Павловича быть на стороже. Это случилось так: вместе с Оболенским служил адьютантом штаба гвардейской пехоты подпоручик л. – гв. Егерского полка Яков Ростовцев. Разные обстоятельства заставили его заподозрить о существовании заговора и крупной роли, которую играл в нем его друг Оболенский. Тогда он написал письмо Николаю I и отправился во дворец для передачи этого письма будто-бы от имени своего начальника, генерала Бистрома. Официальный историк этих дней, барон Корф, приводит в своей книге следующий текст письма Ростовцева к Николаю Павловичу:
«В продолжение четырех лет, – писал он, – с сердечным удовольствием замечав иногда ваше доброе ко мне расположение; думая, что люди, вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно смелости быть откровенными с вами; горя желанием быть по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России; наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону, как к человеку истинно благородному, можно иметь полную доверенность, я решился на сей отважный поступок. Не почитайте меня коварным донощиком, не думайте, чтобы я был чьим либо орудием или действовал из подлых видов моей личности; – нет. С чистою совестью я пришел говорить вам правду.
«Безкорыстным поступком своим, беспримерным в летописях, вы сделались предметом благоговения и история, хотя бы вы никогда и не царствовали, поставит вас выше многих знаменитых честолюбцев; но вы только зачали славное дело; чтобы быть истинно великим, вам нужно довершить оное.
«В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко доброму влечению вашего сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам вашим, вы весьма многих противу себя раздражили. Для вашей собственной славы погодите царствовать.
«Против вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную» гибель России.
«Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша может быть и Литва, от нас отделяются; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державою Азиятскою, и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут вашим уделом.
«Ваше Высочество! может быть предположения мои ошибочны; может быть я увлекся и личною привязанностью к вам и спокойствию России, но дерзаю умолять вас именем славы отечества, именем вашей собственной славы – преклоните Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это длит пагубное для вас междуцарствие и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву или пусть он приедет в Петербург, излейте ему, как брату, мысли и чувства свои; ежели он согласится быть императором – слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас своим Государем.
«Всемилостивейший Государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким – казните меня. Я буду счастлив, погибая за Россию и умру, благословляя Всевышнего. Ежели же вы находите поступок мой похвальным, молю вас не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и моих собственных. Об одном только дерзаю просить вас – прикажите арестовать меня.
«Ежели ваше воцарение, что да даст Всемогущий, – будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие; ежели же, к несчастию России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня вашею доверенностью, позволив мне умереть, защищая вас».
«Минут через десять, – повестнует далее Корф, – Николай Павлович позвал Ростовцева в кабинет, запер тщательно за собою дверь, обнял и несколько раз поцеловал со словами: «вот чего ты достоин, такой правды я не слыхал никогда!» – «Ваше Высочество, – сказал Ростовцев, – не почитайте меня донощиком и не думайте, чтобы я пришел с желанием выслужиться!» – «Подобная мысль, – отвечал государь, – не достойна ни меня, ни тебя. Я умею понимать тебя». Потом он спросил: нет ли против него заговора? Ростовцев отвечал, что никого не может назвать, что многие питают против него (государя) неудовольствие, но люди благоразумные в мирном воцарении его видят спокойствие России; наконец, что, хотя в те пятнадцать дней, когда на троне лежит у нас гроб, обыкновенная тишина не прерывалась, но в самой этой тишине может крыться возмущение. Несколько помолчав, государь продолжал: «может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству, – и не называй! (курсив подлинника)[15]. Мой друг, я плачу тебе доверенностью за доверенность. Ни убеждения матушки, ни мольбы мои не могли преклонить брата принять корону. Он решительно отрекается, в приватном письме укоряет меня, что я провозгласил его императором и прислал мне с Михаилом Павловичем акт отречения. Я думаю, что этого будет довольно». Ростовцев настаивал на необходимости, чтобы цесаревич сам прибыл в Петербург и всенародно, на площади, провозгласил своего брата своим государем. «Что делать – возразил государь, – он решительно от этого отказывается, а он мой старший брат! Впрочем, будь покоен. Нами все меры будут приняты. Но, если разум человеческий слаб, если воля Всевышнего назначит иначе, и мне нужно погибнуть, то у меня – шпага с темляком: это вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках, уверенный в правости и святости своего дела и предстану на суд Божий с чистою совестью». «Ваше Высочество, – сказал Ростовцев, – это личность. Вы думаете о собственной славе и забываете Россию: что будет с нею?» – «Можешь ли ты сомневаться, чтобы я любил Россию менее себя; но престол празден, брат мой отрекается, я единственный законный наследник. Россия без царя быть не может. Что же велит мне делать Россия? Нет, мой друг, ежели нужно умереть, то умрем вместе»! Тут он обнял Ростовцева и оба прослезились. «Этой минуты, – продолжал государь, – я никогда не забуду. Знает ли Карл Иванович (Бистром), что ты поехал ко мне?» – «Он слишком к вам привязан; я не хотел огорчить его этим, а главное я полагал, что только лично с вами могу быть откровенен на счет вас». – «И не говори ему до времени; я сам поблагодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе благородного человека». – «Ваше Высочество, всякая награда осквернит мой поступок в собственных глазах моих». – «Наградой тебе – моя дружба. Прощай!» Он обнял Ростовцева и удалился»[16]. Об отношениях, существовавших в этот момент между Ростовцевым и Оболенским, равно как и об обстоятельствах, сопровождавших передачу Ростовцевым вышеприведенного письма Николаю Павловичу, мы приведем рассказ самого Ростовцева в том виде, в каком он изложен в его собственных записках: «Видя общее недоумение во всех сословиях, – пишет Ростовцев, – зная, что великий князь Николай Павлович не успел еще приобрести себе приверженцев, зная непомерное честолюбие и сильную ненависть к великому князю Оболенского и Рылеева, наконец, видя их хлопоты, смущение и беспрерывные совещания, не предвещавшие ничего доброго и откровенного, я не знал, на что решиться. Никогда еще не представлялся такой удобный случай к возмущению. Мысль о несчастиях, которые может быть ожидают Россию, не давала мне покоя: я забыл и пищу и сон. Наконец, 9-го числа утром я прихожу к Оболенскому и говорю ему: «князь, настоящее положение России пугает меня; прости меня, но я подозреваю тебя в злонамеренных видах против правительства. Дай Бог, чтобы я ошибся. Откройся мне и уничтожь мои подозрения. Мой друг, неужели ты пожертвуешь спокойствием отечества своему честолюбию?



