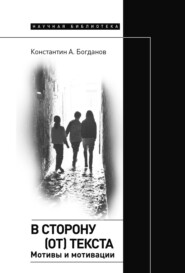скачать книгу бесплатно
(«Евгению. Жизнь Званская», 1807)
Житейские впечатления разнообразятся мелочами, но внимание к деталям обнаруживает не только поэтическую, но и вероучительную мораль: ведь все существующее под солнцем есть результат Божьего творения и, соответственно, природной взаимосвязи и целостности. «Лестница существ», как ее описывал, например, европейски прославленный современник Державина Шарль Бонне в трактате «Созерцание природы» (вослед многочисленным изданиям на европейских языках его русскоязычные переводы появятся в 1792–1796 и 1804 гг.)[101 - Созерцание природы / Соч. г. Боннета <…> перевел Иван Виноградов; СПб.: Иждивением Ивана Сытина. Кн. 1–4. 1792–1796; Созерцание природы / Сочинение г. Боннета. <…> Смоленск: При Губернском правлении, 1804.], представлялась поступательной последовательностью, в которой за камнями и кораллами следовали растения, животные, ангелы и архангелы. В этом ряду зайцы были на своем месте и, как подсказывали западноевропейские и русскоязычные переводы псалма Давида о сотворении мира, Господь неслучайно отвел им, как и прочим робким и беззащитным созданиям, свое пристанище: «высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам» (Пс. 103: 18)[102 - Цит. по: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М.: РОССПЭН, 1996. С. 328.]. Занятно, что в еврейском тексте Библии речь при этом шла не о зайце, а о дамане (евр. «шафан») – небольшом травоядном млекопитающем, внешне схожем с бесхвостыми сурками или морскими свинками. Греческие и латинские переводчики древнееврейского текста о даманах знали понаслышке и поэтому в греческом и латинском текстах соответствующего псалма неведомое животное нашло для себя не менее диковинных родственников в дикобразе (chyrogryllius), еже (ericus) и зайце (lepus и молодой заяц: lepusculus)[103 - Bauer J. Hase // Reallexicon f?r Antike und Christentum. Bd. 13. Stuttgart, 1986. S. 662–678. См. также: Dines I. The Hare and Its Alter Ego in the Middle Ages // Reinardus. 2004. Vol. 17. P. 73–84.]. Церковнославянский перевод выбрал из них зайца, вполне соответствующего как «страноведческому», так и дидактическому контексту библейского пассажа, обретавшего символическое, но зато и общепонятное прочтение. В истолковании этого псалма в проповеди на Фомину неделю Стефан Яворский объяснял его смысл следующим образом:
Нападут ловцы на бедного зверя, выпустят псов гонящих, которые уже отверстым гортанием бедное животное гонят и хотят поглотити. Прибегает бедный заец с страхом и трепетом под камень какой великой, либо в разселину каменную впадет. О щастливый, который таким образом от страха избавляется! Камень прибежище заяцем <…> Камень же бе Христос, который ныне язвы свои дражайшыя аки разселины каменные показует, да быхом в них имели прибежище и сокровение[104 - Цит. по: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. С. 328.].
Об этом же псалме вспоминал протопоп Аввакум, обличая пагубу Никоновских реформ:
камень [… —] церковь божия; зайцы – християне православныя. Яко зайчик под камень хоронится от совы и от серагуя и от псов, наветующих ему, тако и христианин, в церковь приходя, избывает душегубителя диавола и бесов. А ныне и во церквах тех, яко под камень заец бедной не уйдет, яко совы, пастыри тово и ищут, как бы христианина погубити. И не токмо совы, но и псы тово и нюхают, сиречь своя братия, мирстии, друг друга предают. Люто время пришло[105 - Аввакум. Послание Симеону, Ксении Ивановне и Александре Григорьевне // Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М.: Гослитиздат, 1960. С. 267–268.].
Державин поэтически переложил 103?й псалом в оде «Величество Божие» (1789), попутно русифицировав и среду заячьего обитания, «переселив» их с ливанских возвышенностей в среднерусскую полосу:
По высотам крутых холмов
Ты прядать научил еленей,
А зайцам средь кустов и теней
Ты дал защиту и покров[106 - История переложений этого псалма в русской поэзии будет продолжена Ф. М. Глинкой, графом Д. И. Хвостовым и В. К. Кюхельбекером. У Глинки заяц становится кроликом: «Бежит над пропастию смело / Младая серна по горе; / И угнездился кролик белый / Во мшистой каменной норе» (Глинка Ф. Н. Собр. соч. Т. 1. Духовные стихотворения. М., 1869. С. 185), у Хвостова спасительные камни дополняются пустыней: «Все Бог воздвиг, и все создал. / Каменья, дикия пустыни / Он зайцам в жительство избрал, / Оленю гор крутых вершины» (Лирические стихотворения графа Хвостова. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1828. С. 69), у Кюхельбекера заячье местообитание – повод к философскому обобщению: «Обитель серны – высота; / Под камнем дремлет заяц скорый; / Не жизнь ли полнит все места, / Поля, холмы, долины, горы?» (Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1967. С. 387).].
Интересно, что полувеком ранее М. В. Ломоносов, переложивший тот же псалом в середине 1740?х годов, о зайцах не упоминал, оставаясь верным избранному им «высокому» стилю поэтического обращения к Господу. Но он же упомянул зайцев в «Кратком руководстве к красноречию» (1743) – в пересказе смешной и потому стилистически сниженной «картины» Филострата Старшего (1, 6):
Чтобы сей заяц у нас не убежал, станем его ловить с купидинами. Смотри, он сидит еще под яблонью и ест упавшие яблоки, а иные не доевши оставляет. Смотри, как его купидины ловят: иные бьют в ладоши: иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, на него нападают; другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. Заяц в другую сторону повернулся, и один ухватил его за лапу, однако заяц из рук вырвался. И так все засмеявшись упали, иной ниц, иной набок, иной навзничь и разными своими положениями разные свои прошибки показывали[107 - Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 358–359. Рассказ Филострата обширнее, чем его перевод у Ломоносова, и иконологически интересен как раз в той части, которая Ломоносовым опущена, объясняя, почему «купидины» (т. е. эроты) связаны с зайцами: «Пусть не ускользнет от нас и вот этот заяц; давай поохотимся за ним вместе с эротами. Обычно этот зверек сидит под яблонями и поедает упавшие на землю яблоки; обгрызши, он их бросает. И вот его-то эроты пугают и гонят: один хлопает в ладоши, другой криком пугает, а третий машет накидкой; иные с криком летают над ним, а те по следам пешком его гонят. Этот поднялся на воздух, как будто бы сверху хотел он на него наброситься, но заяц повернул в другую сторону; другой нацелился, чтобы схватить зайца за ногу, но выскользнул заяц из рук у него, а он уже думал, что держит его! Они все смеются; один из них упал и лежит на боку, другой уткнулся носом в землю, третий лежит на спине; все они в таких позах, в какие поставила их неудача. Но ни один из них не стреляет, пытаясь схватить зайца живым, как лучшую жертву для Афродиты. Ты, может быть, знаешь, что рассказывают о зайце, как сильно он склонен к делам Афродиты? Говорят, что самка его, еще кормя тех, кого она родила, во время кормления вновь становится матерью, и ставши беременной раньше, чем успеет родить, она таким образом никогда не бывает от родов свободной; самец ж осеменяет ее, как это в природе самцов, но выпустив семя, он делает самку беременной раньше, чем она успеет родить, что уж совсем против природы. А глупцы из влюбленных, добиваясь любви от любимых незаконно, путем заговоров приписали этому зайцу какую-то особую силу любовных чар» (Филострат Старший. Картины. Кн. 1, 5–6 // Филострат Старший. Филострат Младший. Картины. Каллистрат. Описание статуй / Пер. С. П. Кондратьева. Томск: Водолей, 1996. http://simposium.ru/ru/node/804). Ср. у Аристотеля: зайцы «спариваются и родят во всякое время; даже будучи беременными, сверхоплодотворяются, и родят в один месяц» (Аристотель. История животных. VI. 33. 181).].
Пьеро ди Козимо. Венера, Марс и купидон (деталь). 1490. Берлинская картинная галерея. Фото: Sailko, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Заецъ. Миниатюра из лицевого списка «Слова о рассечении человеческого естества» (XVIII в.). Ин-т русской литературы (Санкт-Петербург), кол. И. Н. Заволоко, № 257, л. 28
Для европейской литературы пересказываемый Ломоносовым пассаж отсылал к длительной традиции аллегорически развлекательных, но и моралистических назиданий, в которых зайцам довелось выступать, с одной стороны, в роли трусливо-робких и похотливо-плодовитых созданий (в искусстве Возрождения и барокко ассоциируемых с Афродитой-Венерой и эротами-купидонами), а с другой – служить примерами религиозного смирения и надежды на помощь Господа[108 - Подробно: Layard J. The Lady of the Hare. London: Faber and Faber, 1944; Evans G. E., Thomson D. The Leaping Hare. London: Faber, 1973.]. Отмеченная уже в раннехристианских «Физиологах» способность зайца из?за коротких передних лап быстрее бежать в гору, чем с горы, и тем самым спасаться от своих преследователей, дала жизнь наставительному призыву следовать тем же способностям на пути веры и добродетели – устремляться помыслами вверх к Господу, а не вниз – к греховным соблазнам и злу[109 - Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. С. 90.].
Упование на Господа, как подсказывали те же аллегории, дает свои плоды – таков контекст распространенных в европейской церковной и светской живописи изображений зайцев, лакомящихся райским виноградом. В России традиция подобных аллегорий представлена скупее[110 - Белова О. В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М.: Индрик, 2000. С. 120–122. Автор указывает на иконографию лицевых Шестодневов, на которых зайцы изображаются среди животных, благословляемых ангелом. См. также упоминания о зайцах в отреченной литературе и духовных стихах: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. I. СПб., 1863. С. 269; Буслаев Ф. И. Исторически очерки. Т. II. СПб., 1861. C. 20, прим. 1; Бессонов П. А. Калики перехожие. М., 1861. Ч. I. Вып. 1. С. 273 (№ 76, стих. 161–167), 292 (№ 80, стих. 231–233), 297 (№ 81, стих. 181–184). М. О. Скрипиль делал на основании этих материалов тот вывод, что «в фольклоре и письменности древней Руси заяц – это символ плодородия, духовного богатства, правды» (Скрипиль М. О. Повесть о Петре и Февронии муромских в ее отношении к русской сказке // ТОДРЛ. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 159).]. Один из ее литературных примеров – вирши Симеона Полоцкого из «Вертограда многоцветного» (1676–1680) о гонимом псами зайце, которого спасает «муж некто преподобный», здесь же излагающий мораль этого спасения своим спутникам:
<…> Господь защищает
И тако от демонов лютых избавляет.
Яко же сей есть заяц нами избавленны
Да будем и мы от тех Господем спасенны[111 - Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный. Т. 2 / Подг. текста А. Хипписли и Л. И. Сазоновой. K?ln; Weimar; Wien: B?hlau, 1999. S. 89.].
Ко времени Державина поучительные истории о зайцах разнообразились также басней о «рогатом зайце» – образе, встречающемся в европейской иконографии животных-химер, но занятно обыгранном в басне Лафонтена (на сюжет Габриэля Фаерна) «Заячьи рога», вольно переведенной А. П. Сумароковым в 1760?е годы («Заяц»), а позже Н. А. Львовым («Львиный указ», 1775; ранее считалось, что басня переведена И. И. Хемницером). По сюжету этой басни лев принимает указ, изгоняющий из царства животных рогатый скот, а заяц, принявший тень от своих ушей за рога, в страхе удирает вместе с козлами, баранами, волами и оленями, полагая, что теперь его тоже сочтут рогатым. В. В. Капнист вспоминает об этой басне в комедии «Ябеда» (1793) в самохарактеристике Кривосудова – оправдывающего свое бездействие перед несправедливостью разумной осмотрительностью.
Ж.-Б. Удри. Иллюстрация в басне Лафонтена «Львиный указ». Gravure de Pieter Franciscus Martenisie d’apr?s Jean-Baptiste Oudry, еdition Desaint & Saillant, 1755–1759. Фото: gallica.bnf.fr / Biblioth?que nationale de France
Кривосудов:
Ты знаешь, ведь у нас
И заячьи уши рогами назовут,
То пойдут уши тпруши.
Фекла:
Вот трусость ты свою сам назвал пустяком,
А в тот же самый миг явился русаком,
Но, старое дитя, скажи мне, как не стыдно
Вдруг струсить от того, что ложно очевидно?[112 - Русская комедия и комическая опера XVIII века / Под ред. П. Н. Веркова. М.; Л.: Искусство, 1950. С. 614–615. «Тпруши» – сигнал, которыми подзывали коров, – здесь указывает на рога.]
Позднее оригинальные и переводные басни И. И. Дмитриева («Заяц и перепелиха», 1795; «Ружье и заяц», 1803), Ю. А. Нелединова-Мелецкого («Заяц и лягушки») и И. А. Крылова («Олень и заяц», 1788; «Заяц на ловле», 1813) закрепят за зайцами узнаваемые амплуа трусливого либо равно трусливого и хвастливого персонажа. Исключения в этом ряду редки – хотя они и есть (так, например, в незавершенной басне Крылова «Осел и заяц» хвастуном выступает осел, уверяющий, что он может летать, «как орлиха», а заяц воплощает иронию и здравый смысл). Юный С. П. Жихарев, прочитав в 1805 году объявление об издании «Дамского журнала», главным предметом которого будет «нежная чувствительность, сопряженная с моралью», делает дневниковую запись о своем намерении «попасть в число почтенных российских поэтов», а для начала послать в журнал переведенные им куплеты из комической оперы «Братья-охотники». Судя по этим куплетам из не дошедшей до нас оперы, три братца спорят о том, на кого им сподручнее охотиться – на зайцев, уток или волков, но сговориться им сложно начиная с зайца:
Заячьи ножки
Больно востры,
Все их дорожки
Страх как пестры.
Заяц больно чуток,
Нам тут не клад…
Спорщиков – «милых дружочков» – примиряет кокетливая хозяйка постоялого двора, угостив каждого их них «вкусным кусочком» и налив им бражки. Автор дневника расценивает свое произведение как вполне соответствующее программе нового журнала: «Уж если тут мало нежной чувствительности, сопряженной с моралью, так где же искать ее более?»[113 - Жихарев С. П. Записки современника: В 2 т. Т. 1. Дневник студента. Л.: Искусство, 1989. С. 146, 147.]
Таковы контексты, в которых намечены образы зайцев как литературных персонажей. Важно подчеркнуть вместе с тем, что заяц, как и другие животные в баснях и комедиях, указывает на характеры и ситуации, связанные с ним весьма условно. Пусть наблюдение за зайцами в природе и способно уверить нас в том, что зайцы трусливы, но увериться в том, что зайцы еще и хвастливы, возможно только с учетом их басенной персонификации. Средневековые физиологи, риторика анималистических аллегорий и, наконец, басни имеют в виду поведение не животных, но людей. Можно думать поэтому, что уже сам отход от традиции таких сопоставлений оставляет для зайцев в литературе лишь ту изобразительную роль, которая поддерживает не более – но и не менее, – чем убедительность творческого воспроизведения действительности, ее художественного подобия и социально приемлемого копирования.
Пример Державина показывает, что интерес не к аллегорическому, но именно к миметическому письму в этом случае может быть понят как принципиальный. Литературных предшественников у Державина в этом отношении не было, но были изобразительные – в складывающейся традиции живописного анимализма, освобождающегося в те же годы от назидательности барочного натюрморта. В России становление анималистического жанра связывается с именем немецкого художника Иоганна Фридриха Гроота, переехавшего в 1743 году Россию и вплоть до своей смерти в 1801 году остававшегося ведущим живописцем «по классу зверей и птиц». «Зверопись» Гроота, наследуя уже сложившейся традиции немецкой анималистической живописи, выделялась продуманностью композиции и тщательной прорисованностью деталей, но и изобразительной самодостаточностью животных персонажей. Охотничьи сцены, «портреты» мертвых и живых зверей были занимательны на его полотнах не аллегорическими ассоциациями (пусть таковые и могли традиционно усматриваться в инерции анималистических напоминаний vanitas vanitatis – о бренности живого, обманчивости надежд, бремени соблазнов, неотвратимости смерти), но прежде всего красотой самих изображений и увлекательностью прозреваемых за ними историй. Участниками таких историй у Гроота оказывались самые разные звери и птицы – попугаи и утки, пеликаны и цесарки, совы и журавли, соколы и павлины, леопард и ягненок, собаки и кабаны, рыси и зайцы[114 - Портнова И. В. «Зверопись» немецкого художника XVIII века Иоганна Гроота и его роль в формировании русской анималистической школы // Вестник МГУКИ. 2009. Т. 30. № 4. С. 240–246. См. также: Бардовская Л. В. Коллекция картин И. Ф. Гроота в Екатерининском дворце-музее // Памятники культуры: новые открытия. Письменность, искусство, археология: Ежегодник, 1977. Л.: Наука, 1977. С. 304–308.]. Среди дошедших до нас заячьих сюжетов Гроота: «Заяц на рогоже» (1748), «Борзая за игрой / Собака с зайцем в зубах» (1755), «Кот и мертвый заяц» (1777), «Собака и заяц» (1782). Участь всех изображенных Гроотом зайцев плачевна, они либо уже мертвы, либо вот-вот окажутся таковыми – иллюстрация того привычного обстоятельства, что заяц – это дичь и охотничья добыча[115 - См., впрочем, мнение современного искусствоведа, усматривающего в картине «Кот и мертвый заяц» «эмблематический вывод о превратности бытия и колесе фортуны» (Вдовин Г. Заслужить лицо: Этюды о русской живописи XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2017).].
И. Ф. Гроот. Орел, поймавший зайца. 1779. Национальный музей, Стокгольм
В поэзии Державина неаллегорические и небасенные упоминания о зайцах обнаруживают схожую дидактику в сфере литературной поэтики, утверждающей ценность не монологического назидания, а миметического повествования, рассчитанного на то, что оно будет «считано» читателем не с оглядкой на повторяющиеся образцы жанра, а с опорой на собственную наблюдательность и житейский опыт.
Поэтические особенности лирики Державина нашли продолжение и развитие в творчестве А. С. Пушкина – обстоятельство, кажущееся из сегодняшнего дня тривиальным, но небезразличное для понимания той революционизирующей роли, которую сыграла новизна державинской поэтики в формировании и эволюции пушкинской поэзии. Дэвид Бетеа, специально и, на мой взгляд, справедливо подчеркивающий жизнестроительный потенциал «державинского мифа» в психологии Пушкина, не останавливается на лексико-стилистических нюансах, которые роднят их произведения[116 - Бетеа Д. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта. М.: ОГИ, 2003. С. 155–248. Свод упоминаний о Державине в текстах Пушкина: Данилов Н. М. Пушкин о Державине: К столетнему юбилею со дня кончины Г. Р. Державина. Казань, 1916.]. Между тем уже восприятие современниками «Евгения Онегина» достаточно показывает, сколь непривычными в их глазах были такие особенности пушкинской лирики, которые являются равно характерными и для поэзии Державина. Таковыми прежде всего нужно счесть «прозаизмы», инкорпорируемые в контекст поэтического вдохновения (в примечаниях к своему роману Пушкин симптоматично иронизировал над критиками, возмущенными неуместно, по их мнению, возвышенными описаниями того, как «мальчишки катаются на коньках», а с другой стороны, неприличием слова «дева» по отношению к простой крестьянке, а «девчонки» – по отношению к благородным барышням). Поэтические упоминания о зайцах у Пушкина идут в том же ряду. Таково сравнение Фарлафа с зайцем в «Руслане и Людмиле» (1817–1822):
Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
Со страха скорчась, обмирал
И, верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гнал.
Так точно заяц торопливый,
Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
В другой стихотворной сказке – «Сказке о попе и о работнике его Балде» (1831) герой дурит с помощью зайцев бесенка. В конспективной записи Пушкина эта история излагается так:
У Балды были в мешке два зайца. Он одного пустил, бесенок, запыхавшись, обежал, а Балда гладит уже другого, приговаривая: «Устал ты, бедненький братец, три раза обежал около моря». Бесенок в отчаянье.
Как и Державин, Пушкин описывает свои деревенские досуги и также поэтизирует охоту на зайцев.
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня;
Арапники в руках, собаки вслед за нами;
Глядим на бледный снег прилежными глазами;
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
Двух зайцев протравив, являемся домой.
(«Зима. Что делать нам в деревне?», 1829)
Однако в упоминаниях о такой охоте у Пушкина появляется и то новое, что у Державина отсутствует, и это новое – своего рода сатирическая нота. Даже в вышеприведенном стихотворении травля зайцев рисуется времяпрепровождением захватывающим, но и праздным, занятием «от скуки» и «от нечего делать»[117 - См., впрочем, уже у В. В. Капниста в комедии «Ябеда» (1794) слова Доброва, критикующего безделье и пьянство неправедных судей, один из которых «до травли русаков / Охотник страстный: с ним со сворой добрых псов / И сшедшую с небес доехать правду можно» (Русская комедия и комическая опера XVIII века С. 540). У А. Ф. Мерзлякова в стихотворении «Пир»: «Там, в кружке младых зевак, / В камнях, золоте дурак / Анекдоты повествует, / Как он зайцев атакует» (1807). В «Псовом охотнике» В. Левшина (1810) охота на зайцев прозаически описывается как азартная для охотников и бессмысленно безжалостная к зайцам: «Никакая иная охота не производит такого истребления заячьему роду, как псовая: ибо что ни найдут собаки, бывает почти все истреблено, и горячий охотник не перестанет травить и душить зайцев, пока оные еще попадаются» (Левшин В. А. Псовый охотник, или Основательное и полное наставление о заведении всякого рода охотничьих собак. Ч. 1. М., 1810. С. 246). Из дневника С. П. Жихарева за 1805 год узнаем еще об одном развлечении с зайцами, привычном для Москвы этих лет: это так называемая «садка зайцев» – травля собаками заранее пойманных животных. Одна из таких потех разыгрывалась за Тверской заставой на Ходынском поле. Жихарев описывает анекдотический случай во время очередной садки – «смешную и жалкую» драку двух охотников, бахвалившихся друг перед другом своими собаками, только одна из которых сумела догнать зайца и вздернуть его «на щипец» (Жихарев С. П. Записки современника. Т. 1. С. 141). Щипец – морда гончей собаки.]. В неоконченной драме «Русалка» (1829–1832) мельник саркастически характеризует «труд» князей: «И что их труд? травить лисиц и зайцев, / Да пировать, да обижать соседей». В том же регистре упоминается охота с собаками на зайцев в «Барышне-крестьянке» (1830), «Истории села Горюхина» (1830) и «Дубровском» (1833).
Литературные примеры заячьих мотивов в творчестве Пушкина будут не полны, если не упомянуть о «заячьем тулупчике», который Петр Гринев, герой «Капитанской дочки» (1836), дарит Пугачеву на постоялом дворе и который в конечном счете спасает ему жизнь. Для любителей интертекста, распространяемого на биографию автора, мотив этого тулупчика открывает безбрежное пространство для догадок на тему, в какой мере его «спасительная» функция навеяна известной историей о том, как заяц, перебежавший суеверному Пушкину дорогу, когда он собирался ехать в Петербург, заставил его отложить поездку и тем самым спас его от участи приятелей-заговорщиков, участвовавших 14 декабря 1825 года в выступлении на Сенатской площади[118 - Обстоятельства, помешавшие Пушкину выехать в Петербург, восстанавливаются на основании трех поздних свидетельств: согласно устному рассказу дочери соседки Пушкина, П. А. Осиповой (опубликованному М. И. Семевским в 1866 году), поэт «отправился было в Петербург, но на пути (из Тригорского в Михайловское. – К. Б.) заяц три раза перебегал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием» (Семевский М. И. Прогулки в Тригорское // Санкт-Петербургские ведомости. 1866. № 157; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников: В 2 т. Т. 1. СПб., 1995. С. 281); в воспоминаниях М. П. Погодина, ссылающегося на рассказ самого поэта, не единожды слышанный им «при посторонних лицах», заяц перебегал Пушкину дорогу дважды – один раз на пути из Михайловского в Тригорское и один раз на обратном пути в Михайловское (Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. М., 1875. Отд. II. С. 24; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 281); П. А. Вяземский в письме к Я. К. Гроту, также ссылаясь на слышанное им от самого Пушкина, подтвердил воспоминания Погодина («о предполагаемом приезде Пушкина incognito в Петербург <…> верно рассказано»), но исправил их касательно числа зайцев: «Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один» (Кн. П. А. Вяземский – Я. К. Гроту в 1874 году. К. Я. Грот, Пушкинский лицей. СПб., 1911. С. 107; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 282). Рассказ Пушкина вызывал сомнения пушкинистов (напр.: Edmonds R. Pushkin. The Man and His Age. London, 1994. P. 95; Druzhnikov Ju. Prisoner of Russia. Alexander Pushkin and the Political Uses of Nationalism. London, 1999. P. 283), а Андрей Битов, попытавшийся разобраться с этими обстоятельствами, пришел к выводу, что поэт вообще не отъезжал от собственного подъезда (Битов А. Вычитание зайца. М., 2001. С. 49). Семь лет спустя такая же встреча якобы заставит Пушкина изменить маршрут на подъезде к Оренбургу. «Опять я в Симбирске, – пишет поэт жене 14 сентября 1833 г. – Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу, нет ямщиков, – один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой». Среди рисунков поэта также есть изображение бегущего зайца – в рукописи к стихотворению «Анчар» (1828).]. Оставшийся в Михайловском Пушкин пишет «Графа Нулина», который начинается с описания сборов на охоту, а заканчивается сценой, где нежданно вернувшийся с охоты муж Наташи не только неведомо для себя «спасает» ее от ухаживания графа, но и гостеприимно предлагает ему отобедать только что затравленным на охоте зайцем-русаком[119 - «Между зайцами есть особливый род, называемый русаками. Оные гораздо больше обыкновенных ростом и шерстью бывают серые как летом, так и зимою. Держатся они более на просеках и межах близ пашен, на которых и питаются зеленью» (Карманная книжка для егерей и птицеловов. М., 1822. С. 54).]. Дополнительным интертекстуальным штрихом к истории создания этой поэмы является то, что она была написана 13 и 14 декабря – то есть в те роковые дни, которые решили судьбу декабристов. Спустя пять лет Пушкин напишет «Заметку о графе Нулине», которая обрывается фразой «бывают странные сближения». Ю. М. Лотман объяснял ее с отсылкой к словам из известного Пушкину письма Л. Стерна, адресованного негру Игнасу Санчо: «Мелкие события, Санчо, сближаются столь же странно, как и великие». В интерпретации Лотмана, в ночь на 14 декабря 1825 года Пушкин «размышлял об исторических закономерностях и о том, что из?за сцепления случайностей великое событие может не произойти»[120 - Лотман Ю. М. Три заметки к пушкинским текстам // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. СПб.: Искусство, 2003. С. 336, 337.]. В этом утверждении Пушкину или по меньшей мере его читателю позволительно было быть суеверным. Событие, не случившееся с поэтом, совпало с созданием текста, в котором нарастающая интрига также обрывается происшествием, столь же ничтожным, сколь и многозначительным, и ключевое слово для этого происшествия: заяц.
А. С. Пушкин. Рисунок зайца в рукописи «Анчара». 1829. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Литературный канон, который мы в ретроспективе связываем с эволюцией русской литературы XIX века, складывается не вдруг, и тем важнее оценить то новое, что привнесено Пушкиным в контекст массового чтения его современников. Последнее же, насколько можно судить, по тиражам сочинений других авторов, в разных социальных стратах определяется преимущественно спросом на приключенческие и исторические романы, мелодраматическую и дидактическую поэзию[121 - Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001.]. Литературный анимализм в этих случаях оставался подчиненным традиционной топике упоминаний, описаний, сравнений и уподоблений. Так, например, о травле зайцев упоминает популярный писатель и недоброжелатель Пушкина Фаддей Булгарин, описывая в своем широко читавшемся современниками романе «Иван Иванович Выжигин» (1829) застольную похвальбу досужих охотников:
Разговор был самый занимательный и жаркий. Каждый хвалил своих собак, лошадей, свои ружья и своих охотников, рассказывая любопытные анекдоты о травле зайцев и лисиц, о знаменитых победах, одержанных над волками и медведями[122 - Позднее из переписки Булгарина станет известен его недоброжелательный отклик на смерть А. С. Пушкина, уподобляемую им смерти зайца: «Жаль поэта <…>, – а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал, как заяц» (письмо А. Я. Стороженке, от 4 февраля 1837 года: Стороженки: Фамильный архив. Т. 3. Киев: Типография Г. А. Фронцкевича, 1907. С. 29). О контексте этого высказывания см.: Кардаш Е. «Корчил Байрона, а пропал, как заяц»: Опыт комментария // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 (140). С. 124–136.].
Попутно басенной и фольклорной традиции с зайцами привычно сравниваются пугливые персонажи. В «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова Грушницкий лживо похваляется тем, что он едва не схватил Печорина, тайно посещавшего княжну: но тот «вырвался и, как заяц, бросился в кусты», – эти слова слышит Печорин, и клевета стоит Грушницкому жизни. Его же поэма «Беглец» (1840) начинается с обидных для кавказцев строк:
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла[123 - См. ту же метафору и в схожем контексте в письме генерала Цицианова, угрожавшего в 1803 году джаробелоканским лезгинам: «Попалю всё и водворюсь навеки в вашей земле <…> вы, яко зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану» (Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. СПб., 2000. С. 76).].
Особняком по богатству анималистических мотивов в русской литературе стоит проза Н. В. Гоголя, искушающая к тому, чтобы искать – и, конечно, находить – в его сочинениях аллегории разной степени назидательности или (что кажется мне более верным) примеры языковой игры и жанровой травестии. В ряду таких примеров не обойдены и зайцы – помимо упоминаний об охоте на них, которая предстает у Гоголя чем-то вроде национально-самобытной страсти и вместе с тем времяпрепровождением, характерным для досужих дармоедов. В «Ревизоре» травля зайцев – любимое занятие судьи и городничего. В «Коляске» о такой охоте пекутся окружные помещики. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835) первый из поименованных истцов сам ведет себя как заяц, когда спешит подать жалобу на своего недруга в миргородский суд. В «Мертвых душах» – поэме, как отмечалось уже ее первыми интерпретаторами, создающей местами впечатление намеренного анималистического ребуса – сцена разговора двух приятных дам, гадающих о тайном намерении Чичикова, вызывает образ русского барина, устремляющегося в конную погоню за зайцем. Ноздрев, показывающий Чичикову свое поместье, уверяет его в том, что «вот на этом поле <…> русаков такая гибель, что земли не видно», и что он «сам своими руками поймал одного за задние ноги» («„Ну, русака ты не поймаешь рукою!“ – заметил зять. „А вот же поймал, нарочно поймал!“ – отвечал Ноздрев»). Хлебосол Собакевич рисует перед Чичиковым устрашающую картину губернаторской кулинарии: «Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца». (В юбилейном издании А. Ф. Маркса (СПб., 1901 года) восклицание Собакевича дополнено иллюстрацией художника Мечислава Михайловича Далькевича, на которой изображен зловещего вида повар, одной рукой держащий на весу за шкирку кота, а другой сжимающий здоровенный нож.)
М.М. Далькевич. Иллюстрации к книга Н.В. Гоголя «Мертвые души». Санкт-Петербург: Издание А.Ф.Маркса. 1901.
«Черный юмор» этого пассажа отсылает, может быть, к французской поговорке, гласящей, что для приготовления жаркого необходим заяц («Pour faire un civet prenez (=il faut) un li?vre») или по меньшей мере кот (мотивные примеры обыгрывания такой кулинарной подмены находим, в частности, у Алена Лесажа в «Истории Жиль Бласа из Сантильяны»)[124 - «Сказав это, он отвел меня в небольшую каморку, куда четверть часа спустя принес рагу из кота, которое я съел с не меньшим аппетитом, чем если бы оно было из зайца или кролика» (Лесаж А. История Жиль Бласа из Сантильяны / Пер. Г. И. Ярхо. Л.: Лениздат, 1958. С. 134 (Кн. 2. Гл. 7)).]. Но поварское злодеяние обнаруживает в этом случае и тот содержательный смысл, что это еще одно qui pro quo, еще одна подмена в семантике гоголевского повествования (и вообще гоголевских сюжетов, начиная с «Ревизора»), где смешиваются мертвые и живые, люди и животные, мечты и реальность, где из букв, чтение которых так завораживает Петрушку, «вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Само многообразие анималистических метафор, которыми так богат текст «Мертвых душ», указывает в этих случаях не на однозначность неких характерологических соответствий[125 - Традиция таких характеристик восходит к Степану Шевыреву (Шевырев С. П. «Похождения Чичикова, или мертвые души», поэма Н. В. Гоголя // Москвитянин. 1841. Ч. V. Кн. 9. С. 236–270). См. ее развитие в: Смирнова Е. А. Эволюция творческого метода Гоголя от 1830?х годов к 1840?м: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1974. С. 20, след.; Софрыгина Т. С. Образ Чичикова в контексте анималистических мотивов // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе (опыты феноменологического анализа): Сб. научных трудов. Екатеринбург, 2001. С. 343–352. См. также: Луговой А. Е. Читая Гоголя глазами зоолога // URL: http://vlsaltykov.narod.ru/doclad28.02.08.html. Сколь бы ни были остроумны такие наблюдения, «описание гоголевских персонажей», по справедливому замечанию Ю. Манна, «не сводится к анималистике» (Манн Ю. Поэтика Гоголя. М.: Худож. лит., 1978. С. 307).], а на фантасмагоричность мира, в котором многое возможно: если уж Чичиков может оказаться Наполеоном, то заячье жаркое вполне может быть приготовленным из кота.
Спрос на реализм и «правду жизни», активно культивируемый в критике 1850–1870?х годов, предсказуемо ограничил заячьи мотивы охотой и отчасти кулинарией. Дальше других в этом отношении пошел Сергей Тимофеевич Аксаков, посвятивший зайцам целую главу в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852). Описание Аксакова замечательно и как зоологической очерк, в котором различаются зайцы-русаки, беляки и тумаки, и как охотничий нарратив, и как сводка диалектизмов, и как своего рода историко-кулинарный документ, из которого выясняется, например, что автор еще помнит о тех временах, когда крестьяне Оренбургской и Симбирской губерний из предрассудка не употребляли зайцев в пищу, а теперь «начинают употреблять в пищу задки или почки, а передки бросают, говоря, что передок у зайца собачий»[126 - «Хлебный русак до того бывает жирен, что, не видавши, трудно поверить: от одних почек из внутренности русачьей тушки собирается иногда сала до двух фунтов! Сколько же его еще остается? Такой русак отлично вкусен, и беляк, даже очень сытый, никогда сравниться с ним не может. Вообще заячье мясо имеет сильный и приятный вкус дичины: оно очень питательно, даже горячительно» (Аксаков С. Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии // Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1956. С. 460). К сожалению, Аксаков ничего не говорит о тех предрассудках, которые мешали в стародавние времена видеть в зайцах предмет кулинарии. Но известно, что зайцы использовались в практиках народного врачевания. Так, в описании Самуила Готлиба Гмелина, совершавшего в начале 1770?х годов путешествие по югу России, заячья кровь считалась средством от болезненного слезотечения (Гмелин С. Г. Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе. Ч. 3, половина вторая. СПб., 1785. С. 487). Из тамбовского лечебника конца XVII века узнаем, что употребление мяса и крови зайца полезно тем, кто страдает ночным энурезом, а тем, у кого болят глаза («аще власы растут из очию»), следует мазать глаза заячьим мозгом (Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 4. Тамбов: Тип. Тамбовского правления, 1887. С. 156).]. Интересно, что, подкрепляя свои наблюдения, Аксаков в тех же записках ссылался на мнение друзей, тоже заядлых охотников – А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина[127 - Тот же А. С. Хомяков в переписке с К. С. Аксаковым, заканчивая обсуждение политических событий, не забывает упомянуть об увиденном им странном русаке, которого, к своему сожалению, он не смог затравить: «Русак огромной величины, с темной полосой на спине, с белыми пятнами на боках и белою шеею, при том весь лохматый. Никто из охотников такого не видал. Досадно, что не удалось затравить» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Письма. М.: В университетской типографии, 1900. С. 348–349 (письмо от 15 сентября 1854).]. В истории русской литературы круг писателей-охотников пополнится именами И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. Ф. Писемского, И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, А. А. Фета и многих других авторов, неожиданно обнаруживающих между собою то общее, что большинству из них довелось охотиться на зайцев[128 - Исключением в этом ряду был, судя по воспоминаниям Афанасия Фета, Алексей Константинович Толстой: «граф, не будучи сам охотником, принужден был руководствоваться в суждениях о состоянии охоты словами лесных сторожей, тоже не охотников» (Фет А. Мои воспоминания. Ч. 2. М., 1890. С. 186).].
Стоит заметить, что навык такой охоты объединял охотников и тем «общим» знанием, которое сегодня в существенной степени утеряно; в литературоведении осознание таких потерь служит поводом к комментарию, призванному приблизить читателя к мироощущению и опыту персональных переживаний автора. Но объяснить – не значит почувствовать, и нужно определенное усилие, чтобы осознать эту эмоциональную разницу. Что чувствовал, например, Сергей Львович Толстой (сын Л. Н. Толстого), когда в старости ностальгически вспоминал о такой охоте, как об одном из самых ярких и радостных эпизодов своей жизни?
С утра мы выезжали верхами с собаками на сворах и равнялись по полям, то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, с тем, чтобы «наехать» на зайца или на лисицу. В овражках с кустиками, в густой траве, в картофельных полях мы хлопали арапниками, чтобы поднять зайца, а когда он выскакивал, мы кричали «Ату его!» и скакали за ним. А когда удавалось «подозрить» зайца, то есть увидеть его на лежке, то надо было немного отъехать от него, чтобы не испугать, и, подняв арапник, протяжно кричать: «А-ту е-го». И только когда остальные охотники съезжались, зайца выпугивали, и начиналась травля <…> Обыкновенно, прежде чем поймать зайца, собаки делают ему угонки: какая-нибудь собака догонит зайца, хочет его схватить, а он увильнет в сторону, и она проносится мимо; зайца догоняет другая собака, он опять увиливает и т. д. <…> остальные собаки прискакивают и хватают зайца; вокруг него образуется кружок собак; он кричит, как ребенок. Я прискакиваю, спрыгиваю с лошади, отгоняю собак, закалываю зайца, отрезаю лапки (пазанки), бросаю их собакам, а зайца вторачиваю в седло. Странно, что при этом я не испытываю чувства жалости к зайцу, неприятно только слышать его крик[129 - Толстой С. Л. Очерки былого. Тула: Приокское кн. изд-во, 1965. С. 127–128. Об особенностях и терминологии такой охоты см. также: Кишенский Д. Охота в наездку // Журнал охоты. 1875. Т. 2. № 5. С. 18–22.].
«Национальная особенность русской охоты» на зайцев состояла при этом в ее безграничности. Счет убитых зайцев велся на десятки – ради самого счета. В воспоминаниях Афанасия Фета цитируются письма Тургенева, в которых русский писатель из немецкого далека (обосновавшись в середине 1860?х годов в Баден-Бадене), скрупулезно отчитывался в своих охотничьих успехах:
Скажу вам, что я пока здоров и убил всего 162 штуки разной дичи: 103 куропатки, 46 зайцев, 9 фазанов и 4 перепела[130 - Фет А. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 105 (письмо от 30 сентября 1866 г.)];
Охота идет помаленьку; погода только мешает. На днях был удачный день: мы убили 3?х кабанов, 2?х лисиц, 4?х диких коз, 6 фазанов, 2?х вальдшнепов, 2?х куропаток и 58 зайцев. На мою долю пришлось: 1 дикая коза, 1 фазан, 1 куропатка и 7 зайцев[131 - Там же. С. 207 (письмо от 3 ноября 1869 г.).].
Сам Фет, столь же заядлый охотник, что и Тургенев, вспоминал позднее, как оказавшись в юности в Германии (в Гессен-Дармштадте), познакомился «с немецкой охотой, о какой у нас в России не может быть и помину», а именно – с необходимостью считаться с правилами отстрела дичи. Отправившись со своим тамошним «образованным», «оживленным» и «приятным» знакомым – обер-форстратом Бауэром – пострелять куропаток, русский охотник привычно высматривает и зайцев тоже:
Когда мы вышли на картофельное поле, зайцы то и дело стали вскакивать из-под моих ног, и непривычный к таким сюрпризам, я как-то не вытерпел, выстрелил и убил зайца.
– Боже мой! Эти проклятые русские! – воскликнул Бауэр, – ведь я же вам толковал, что до осенней охоты нельзя стрелять зайцев под большим штрафом; ну что мы теперь будем делать с вашим зайцем![132 - Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 253, 254–255.]
На родине Фет привык к другому – к бесконтрольному отстрелу сотен зайцев и брутальности охотничьих навыков, приводя в тех же воспоминаниях эпизод, о котором, с его слов, «покойный Тургенев говорил, что он ни за что не решился бы его рассказывать, и даже в лицах представлял, как бы он заикался на слове заяц»:
Зная, что гонные зайцы выбирают в лесу дорожки и чистые поляны, на которых могут, прибавив бегу, успешнее уйти от набегающей стаи, я остановился на продолговатой поляне, вдоль прорезаемой лесною дорогою <…> Долго стоял я, прислушиваясь к отдаленному гону; но вот лай все громче и видимо приближается; я весь превратился в слух и через минуту увидал зайца <…> Подпустивши его на довольно близкое расстояние, я выстрелил, и заяц покатился через голову, взмахнув, очевидно, перебитою заднею ногою. Не успел я броситься к своей добыче, как заяц кинулся бежать прямо на меня; я приложился, чтобы добить его из левого ствола, но левый ствол дал осечку. Я решился прижать ружьем зайца к земле <…> но и тут я промахнулся. <…> В жару неудачной гимнастики я не заметил, что стая гончих с яростным лаем обскакала меня и шагах в пятнадцати по дороге от меня схватила закричавшего зайца. Зная, что через минуту от моего зайца не останется ни клочка, я <…> вырвал зайца у них из зубов; но если бы при этом я решился опустить зайца ниже своей головы, то никакие крики не помогли бы <…> Чтобы не держать в руках изувеченного зайца, я со словами «приколи его» передал зайца Жгуну (денщику, помогавшему на охоте. – К. Б.). Тот хладнокровно, доставши из голенища большой складной ножик, прямо отпазаничал зайца, т. е. отрезал ему по коленный сустав ноги.
– Подержите, сударь, – сказал он, подавая мне зайца обратно; но вместо того, чтобы хотя теперь отколоть зайца, Жгун стал разрывать лапки по суставам пальцев и кидать куски жадным гончим.
– Ах, Жгун, какие гадости ты делаешь! – воскликнул я и бросил зайца наземь. Каково же было мое удивление, когда заяц с отрезанными по суставы задними ногами пустился бежать и притом с такой быстротой, что мне нельзя было и помышлять догнать его. Но увидав бегущего, стая снова взревела, и через полминуты заяц опять был пойман и на этот раз отколон и уложен в бричку[133 - Фет А. Ранние годы моей жизни. С. 310, 311–312.].
Упоминания о зайцах позволяют в этих случаях судить об охотничьем азарте, овладевавшем мемуаристами и писателями-охотниками (в том числе и теми, с кем принято связывать сегодня создание русского литературного канона), но и о некоторых нарративных особенностях, осложняющих или разнообразящих представление о самой русской литературе XIX века. Главной из них можно счесть кажущуюся «несерьезность» таких упоминаний: на фоне общественных, политических и морально-нравственных проблем, будораживших литературную критику второй половины XIX века, «заячьи» мотивы усложняют и разнообразят магистральные для нее темы «правды», социальной критики и общественной пользы дискурсивными «мелочами» бытового, юмористического и автобиографического плана. Изобразительной иллюстрацией такого отношения может служить картина Василия Перова «Охотники на привале» (1871, авторский повтор картины был сделан в 1877 году), воспринятая уже ее первыми зрителями как бытовой анекдот на тему «вранья», хвастовства и охотничьих баек, и вместе с тем – как отход художника от социальной тенденциозности периода «Проводов покойницы» (1865), «Тройки» (1866) и «Утопленницы» (1867)[134 - Характерен отзыв Достоевского в «Дневнике писателя» (1873): «Картина давно уже всем известна: „Охотники на привале“; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется… Что за прелесть! <…> Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 71). См. также: Бобриков А. А. Другая история русского искусства. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 317, 325–326. Подробный анализ собственно охотничьих деталей картины показывает их условность: не очень понятно, завершение какой охоты изображено на картине – ружейной или псовой (на картине есть рожок, не нужный при ружейной охоте, но есть ружье, не нужное при псовой; есть только одна собака – не ясно, борзая или сеттер, хотя для псовой охоты требовалась стая гончих, обувь одного из охотников – с высокими каблуками – при охоте неудобна, тушка зайца не повреждена, хотя, по правилам, убитого зайца отпазанивали (отрезали передние лапы) и приторочивали (прикрепляли) к седлу, здесь же изображен убитый тетерев – птица лесная, тогда как за зайцами охотились в поле, дорогое ружье фирмы «Энфилд» лежит дульной частью на земле, чего опытный охотник никогда бы не сделал (Головин В. В. «Охотники на привале» Василия Перова: Историко-культурный очерк-комментарий // Материалы Всероссийской научно-практической конференции Строгановские чтения. VI (Усолье, 25–26 октября 2014). Усолье, 2015. С. 21–39). В истории русской живописи охотничий сюжет Перова будет продолжен «охотничьими» картинами Иллариона Прянишникова, одна из которых – «Конец охоты» (1884) – также с юмором, но «этнографически» точнее представляет заячью охоту. Присланная художником на выставку Товарищества передвижных выставок в 1884 году, эта картина (первоначально называвшаяся «Охотники») привела в восторг Владимира Стасова: «Как написан реденький лес осенью, с продольными перспективами повсюду насквозь, как написаны оба охотника, из которых один, барин, трубит в рог, надсаживаясь во всю силу толстых щек, а другой, подогнув колени, собирается отрезать лапку убитому зайцу и бросить ее собакам! Какое у него серьезное и важное выражение, как он ушел весь в свое занятие, какие выражения у собак, жадно поднявших морды и вертящих хвостами, – это просто изумительно! <…> Прянишников является тут достойным товарищем Перова» (Стасов В. В. Наши художественные дела (1884) // Стасов В. В. Избр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Искусство, 1952. С. 16).].
Образ зайца – робкого потешного ушастого зверька, вся защита которого состоит в быстрых лапах, – давал в этих случаях повод к своего рода анекдотической сентиментальности, которую, кажется сегодня, трудно соотнести с таким занятием, как охота. Так, например, в описании Аксакова лучшая охота на зайцев-беляков начинается весной
около больших и средних рек, на островах, залитых со всех сторон полою водою. Эта охота очень добычлива; на иной небольшой островок набежит зайцев множество, и они, взбуженные охотниками, бегают как угорелые взад и вперед, подобно испуганному, рассеянному стаду овец; некоторые от страха бросаются в воду и переплывают иногда немалое пространство. В это время стреляют их в большом количестве;
но, признается он здесь же, сам он «никогда не любил такой охоты, похожей на какую-то бойню загнанной в загородь скотины». Некрасов опишет ту же сцену в неоконченном романе «Тонкий человек» (1853–1855)[135 - «Грачову очень хотелось убить гуся, но едва ботник приближался к месту их отдыха, осторожные птицы с криком слетали и пропадали в воздухе. Зато он устал, стреляя по несчастным зайцам, которые разделяли участь жителей этой бедной стороны: их облило, и они, как тени, целыми сотнями бродили по обнаженным островам, тоскливо поглядывая на ближний, но недоступный лес или кустарник.Разговаривая с своими гребцами, путники вдруг поражены были дикими криками, доносившимися с ближайшего островка.– У-у-у! ух-ух-ууух! – И потом: – Эй! держи! лови! хорошенько его, хорошенько! береги, Ваню-хааа! у! косой черт! у-у-у! а-а-а-ря-ря-рррря!Загадка объяснилась, когда они подъехали ближе к острову: десятка полтора мальчишек ловили зайцев – били вдогонку палками или, мгновенно падая, давили их брюхом, причем несчастная жертва испускала раздирающий крик, подобный плачу ребенка. У берега они заметили три ботника, уже до половины нагруженные зайцами. В этой стороне народ не брезгует заячьим мясом, как это бывает во многих других деревнях России, вследствие известного предрассудка. Здесь, напротив, каждое семейство, с помощью меньших членов своих, весной запасается зайчатиной и, посолив, ест ее до самого лета. В это время года заячий мех никуда не годен» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1950. C. 402).] и положит ее в основу поэмы «Дедушка Мазай и зайцы» (1870). Герой последней, как мы помним со школьных лет, спасает зайцев во время паводка, возвращаясь в деревню – к потехе односельчан – в лодке, заполненной ушастыми пассажирами, и еще таща за собою бревно с ними же. Заметим вместе с тем, что анекдотичность и умилительность истории, вложенной Некрасовым в уста Мазая (а также юмористические иллюстрации, которыми обычно сопровождается эта поэма в книгах для детей), в целом сглаживает мрачную зарисовку ее начала, которое тоже способно стать поводом для суждений о нравах русского простонародья:
В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, – их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут,
– Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?..[136 - Ср.: «Некоторые крестьяне тешатся в зимнее время ловлей зайцев в силки, которые ставят на заячьих тропах. Часто мне случалось видеть только одни остовы в петлях, а потому я постоянно выдираю все петли, которые попадаются мне на пути, да наконец давно бы следовало обратить внимание на этого рода охоту, как далеко неприличную охотнику» (Явленский Н. О приморской и степной охоте в Астраханской губернии // Журнал охоты. 1875. Т. 2. № 2. С. 46).]
«Несерьезность» «заячьих» мотивов не лишена, таким образом, своей дидактики и своего «охотничьего» этоса. Русская литература богата описаниями охоты, и в их контексте упоминания о зайцах многочисленны и местами художественно незаурядны – примерами такого рода могут служить стихотворения того же Некрасова.
Но ловля, травля и стрельба
Идут успешно: уж сразили
Лисицу, волка и хорька,
Вдобавок в сети заманили
Недальновидного сурка
И пару зайцев затравили. <…>
(«Баба-яга, костяная нога», 1840)
Что ж делать нам?..
Блаженные отцы
И деды наши пировать любили,
Весной садили лук и огурцы,
Волков и зайцев осенью травили.
(«Чиновник», 1844)
Дорога моя забава,
Да зато и веселит.
Об моей охоте слава
По губернии греми!
Да зато как гаркнут «слушай!»
Доезжачие в бору,
И зальются вдруг тявкуши,
Словно птицы поутру,
Как кубарь, матерый заяц
Чистым лугом подерет
И ушами, как китаец,
Хлопать в ужасе начнет.
(Водевиль «Петербургский ростовщик», 1844)
Пили псари – и угрюмо молчали,
Лошади сено из стога жевали,