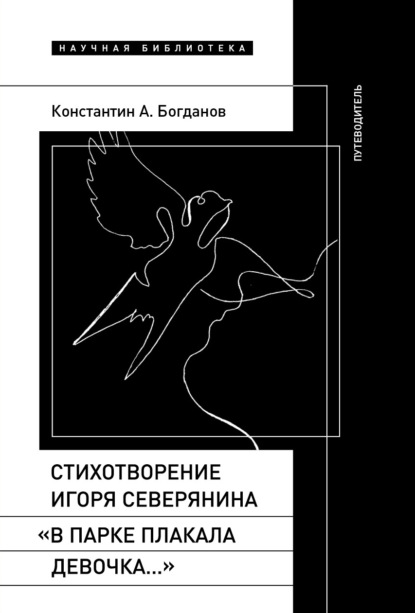
Полная версия:
Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
(Огромную роль в стихотворении играют многоточия. Они могут означать, что у девочки перехватило дыхание от слез, не хватило слов, чтобы выразить свои чувства. Автор намеренно выпустил слова: за ними конкретные действия.)
– Как вы думаете, что сделала девочка?
(Погладила птичку, завернула в платочек, прижала к себе, попросила отца помочь ласточке, взять ее домой.)
– Какое определение можно дать ее поступку?
(Добрый, милосердный.)
– Как вы понимаете лексическое значение этих слов?
(Доброта – отзывчивость, стремление делать добро другим людям.
Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-либо.)
– Таким образом, мы видим, что девочка не только пожалела птичку на словах, но и оказалась способной совершить добрый поступок. <…>
– А могли бы вы заплакать? А взрослые? Почему же девочка отреагировала так остро?
(Она впервые так близко увидела чужую боль, это было первое живое существо, к которому она проявила милосердие, а первое чувство всегда самое острое.)
– А теперь подумайте, случайно ли автор пишет в стихотворении именно о ласточке, а не о другой птице?
(Можно предположить, что не случайно. «Первая ласточка» – устойчивое выражение. Так говорят о первых признаках появления чего-то хорошего.)
– Так что же так потрясло отца? О чем он задумался?
(Он увидел в своем ребенке первые признаки появления доброты, милосердия. На его глазах в дочери родились эти качества.) <…>
– Прочитаем последние строки стихотворения.
– Как вы понимаете слово «грядущий»?
(Будущий.)
– Почему отец прощает дочери грядущие капризы и шалости?
(В ней есть то, что сделает девочку настоящим человеком.) <…>
– Итак, сегодня мы проанализировали удивительно нежное и трогательное стихотворение И. Северянина, в котором поэт проявил себя с неожиданной стороны: как простодушный, мечтательный и даже наивный человек, а главное – удивительно добрый87.
Вышеприведенные вопросы при всей своей дидактической простоте предполагают, что дети совершат некоторое усилие, направленное на последовательно выстроенное объяснение. Если верить педагогам, стихотворение «В парке плакала девочка…» особенно нравится девочкам88. Русскоязычные дети в США тоже воодушевлены этим стихотворением:
Ключевым при анализе выступал исконно русский концепт «жалость». Почему лирической героине было жалко раненую ласточку? Почему папа простил дочери все «капризы и шалости», даже те, которые еще не случились? Любить и жалеть – людей и все живое; жалеть значит любить – таковы маркеры русской культуры, воссозданные в стихотворении. Природа стиха драматическая. Фиксируем внимание детской аудитории на том, что девочка доверительно обращается к отцу с элементами разговорной интонации – «посмотри-ка». И тут же в качестве контраста выделяем старославянизм «грядущие», незнакомый учащимся. Почему поэт употребил такое древнее слово в обрисовке вполне современной житейской ситуации? Объясняем это классической традицией словоупотребления высокой лексики для подчеркивания значительности момента: сквозь слезы девочки высвечивается ее добрая чистая душа. Выстраиваем семантический ряд: грядущий, будущий, последующий – словарный запас ученика обогащается. И все же понимание жизни американскими школьниками как чего-то устойчивого, с предполагаемыми выходами из кризисных ситуаций, совершенно неожиданно возбудило их интерес к продолжению истории о ласточке, вызвав следующие вопросы: «Была ли впоследствии оказана медицинская помощь ласточке?», «Как лечить ласточку?», «Разрешит ли отец оставить ласточку дома, чтобы она окрепла?»89.
От «взрослого» литературоведения ожидается нечто подобное: это ряд вопросов, которые могли бы стать основой для многостороннего прочтения текста. В терминах филологических методик оно предполагает совмещение синтагматического анализа, сфокусированного на линейном развертывании семантической структуры текста, и парадигматического, включающего стихотворение Северянина в более широкий контекст его творчества. В данном случае я ограничу (и, соответственно, упрощу) свою задачу, оставаясь в пределах биографического, лингвостилистического и культурно-исторического анализа с попутными замечаниями теоретического характера.
Из воспоминаний Веры Коренди, гражданской жены поэта, известно, что в последние годы жизни Игорь Северянин гулял и занимался с их общей пяти-шестилетней дочерью Валерией (урожденной Кореневой, 1932 г. р.), читая ей, в частности, стихотворение «В парке плакала девочка…»90. Известно и то, что ко времени написания этого стихотворения поэт уже был отцом двухлетней дочери Тамары, родившейся в 1908 году в отношениях поэта с Евгенией (Златой) Гуцан. Игорь Северянин определенно не читал свое стихотворение первой дочери, в воспитании которой после расставания со Златой (еще до рождения ребенка) он не принимал никакого участия и которую единственный раз увидит только в 1922 году в Берлине, но не исключено, что какая-то проекция отеческой заботы о дочери как о плачущей девочке сказалась в поэтической сценке, написанной им в 1910 году. В 1913 году у Северянина родилась вторая дочь – Валерия Семенова (названная в честь Валерия Брюсова). Остается гадать, читал ли Северянин свое стихотворение ей, – но отношений с ее матерью он, во всяком случае, не прерывал: все вместе они приехали в Эстонию в 1918 году. Так, не без некоторой натяжки можно сказать, что если не контекст написания, то по меньшей мере содержательный смысл стихотворения «В парке плакала девочка…» был для зрелого Северянина биографически небезразличным.
Вопрос в следующем: в чем таится это содержание для реальных и воображаемых читателей Северянина? Казалось бы, такой вопрос прежде всего должен быть адресован самому Северянину – но я в этом не уверен уже потому, что рассуждения об авторской интенции подчинены рецепции текста. Интерпретация любого художественного текста является литературно-антропологической – уже потому, что это интерпретация чего-то, что написано кем-то, кто отстоит от нас во времени и пространстве, чего-то, что адресовано современникам автора, а значит, уже поэтому обязывает к пониманию языка и таких обстоятельств создания произведения, которые являются сторонними по отношению к интерпретатору. При всем стремлении к воссозданию «ближайшего контекста» анализируемого текста, нам не избежать его осовременивания и «присвоения». Автором стихотворения «В парке плакала девочка» является Северянин, но в опыте восприятия и истолкования оно отчасти становится и моим тоже. Адресуясь же к читателю и обобщающе говоря, это наше стихотворение и наш Северянин.
В терминах рецептивной эстетики (в том виде, в котором она складывалась благодаря усилиям Вольфганга Изера и Ханса-Роберта Яусса), смысл текста не извлекается из текста, как некоторая заложенная в нем данность, но конституируется в процессе чтения: смысл – это создание смысла (Sinnkonstitution)91. Истолкование текста обязано встрече с воображением и опытом реципиента – оно исторично и, по меньшей мере, субъективно, но
так как уровни интерпретации, переходы между ними, поиски равновесия ведет читатель, читатель же и сообщает тексту то динамическое жизнеподобие, которое, в свою очередь, позволяет ему усвоить чужой опыт как часть собственной жизни92.
Задолго до популярности нарратологических (и поэтологических) исследований Томас Элиот усматривал в полифонии стихотворного высказывания проблему поэтической коммуникации и различения драмы, квазидрамы и недраматической поэзии.
Первый голос – это голос поэта, говорящего с самим собой – или ни с кем. Второй – голос поэта, обращенный к аудитории, большой или маленькой. И третий – это голос поэта, воплощенный в драматическом персонаже, говорящем стихами; не то, что сказал бы сам автор, а только то, что может сказать один воображаемый персонаж другому воображаемому персонажу93.
Разобраться в иерархии подобного многоголосия (да еще с учетом возможного диалогизма персонажей в границах одного стихотворения) по меньшей мере сложно94. Но у читателя есть выбор, и этот выбор основан на доверии к тому, что он слышит в прочитанном.
Доверие не является само собой разумеющимся понятием. В социологии и психологии оно понимается различно95. Но и в том и в другом случае у него есть проспективный аспект, отсылающий к будущему. Доверять кому-то или чему-то – это значит снимать границу между «знанием» себя и «незнанием» другого через предвосхищаемое будущее. Будущее присутствует в настоящем, обнадеживая возлагаемыми на него ожиданиями. В этом смысле проективна и литература – и поэзия, в том числе. Сказанное автором нечто и некогда предполагает по меньшей мере, что оно будет не просто прочитано, но прочитано как то, что обращено к будущему, – хотя бы потому, что читатель по отношению к автору всегда пребывает в будущем.
В общем виде о любом лирическом произведении можно сказать, что оно движется «от внешнего к внутреннему, от фактов объективной действительности к их эмоциональной переработке, к их переживанию некоей внутренней правды, вытекающей из предельно лично понятой и прочувствованной ситуации»96. Эстетика в этих случаях осложняется этической пресуппозицией, подразумевающей относительную «правду» поэзии. По крылатому соподчинению этих слов у Гёте, «поэзия» и «правда» взаимообусловлены. Сомнение в поэтической искренности не мешает (или, может быть, даже помогает) пониманию стихотворения, но разрушает эмпатию, которую, казалось бы, читатель и/или слушатель изначально вменяет себе по отношению к поэту и тем голосам, которые он создает.
В нашем стихотворении включение в текст прямой речи открывает пространство диалога. Непосредственные персонажи этого диалога – девочка и ее отец – в известном Северянину поэтическом контексте отсылают к Константину Фофанову (стихотворению «Рисунок», 1902) и Александру Блоку – к «пьесам» 1905 года «Поэт» («Сидят у окошка с папой…») и «У моря» («Стоит полукруг зари…»), вошедшим в раздел «Детское» сборника «Нечаянная Радость» (1907). Ввиду важности этих текстов для их возможного сопоставления со стихотворением Северянина приведу их полностью97.
Константин Фофанов. РисунокДевочка долго бумажку чертилаИ улыбалася кротко и мило, —Черточки, точки, кривой полукруг…– Что это значит, мой маленький друг?Девочка тихо головку склонила.– После увидишь! – ответила милоИ принесла мне рисунок потомС ясной душою и с ясным челом.– Видишь, какие картиночки вышли?– Не понимаю: собачка ли, мышь ли?Или лошадка, иль серый коток?Что написала, скажи мне, дружок!– Папа, какой непонятный ты, право!Видишь, здесь ангелы Божьи направо,Видишь, тут речка и райский цветок.– Вижу, голубушка, вижу, дружок!О, золотая невинность моя!Может быть, так же мечтаю и я,Может быть, так же прилежный мой трудГлупые люди, смеяся, поймут98.Александр Блок. ПьесыСидят у окошка с папой.Над берегом вьются галки.– Дождик, дождик! Скорее закапай!У меня зонтик на палке!– Там весна. А ты зимняя пленница,Бедная девочка в розовом капоре…Видишь, море за окнами пенится?Полетим с тобой, девочка, за море.– А за морем есть мама?– Нет.– А где мама?– Умерла.– Что это значит?– Это значит: вон идет глупый поэт;Он вечно о чем-то плачет.– О чем?– О розовом капоре.– Так у него нет мамы?– Есть. Только ему нипочем:Ему хочется за море,Где живет Прекрасная Дама.– А эта дама добрая?– Да.– Так зачем же она не приходит?– Она не придет никогда:Она не ездит на пароходе.Прошла ночька.Кончился разговор папы с дочкой99.Стоит полукруг зари.Скоро солнце совсем уйдет.– Смотри, папа, смотри,Какой к нам корабль плывет!– Ах, дочка, лучше бы намУйти от берега прочь…Смотри: он несет по волнамНам светлым – темную ночь…– Нет, папа, взгляни разок,Какой на нем пестрый флаг!Ах, как его голос высок!Ах, как освещен маяк!– Дочка, то сирена поет.Берегись, пойдем-ка домой…Смотри: уж туман ползет:Корабль стал совсем голубой…Но дочка плачет навзрыд,Глубь морская ее манит,И хочет пуститься вплавь,Чтобы сон обратился в явь100.В стихотворении Северянина «коммуникативная» ситуация выглядит схожим образом – с той, однако, разницей, что отец девочки, хотя и является адресатом ее обращения, «вслух» ей ничего не отвечает. Поэтический диалог в этом случае замечателен своим превращением в потенциальный полилог: девочки, ее отца и читателей/слушателей стихотворения.
Стоит заметить, что прямая речь даже в своей речи – автоцитирование («И я сказал: „…“») – разотождествляет того, кто говорит от первого лица, и того, кто говорит как бы от первого лица. В нарративном отношении это разные лица и разные рассказчики. Включение в текст чужой прямой речи и вовсе конструирует многоголосие, наделенное дейктическим – голосовым, «телесным» и пространственным – измерением. Здесь это дистанция между «повествователем», девочкой, ее отцом и «нами», свидетелями описываемого события. Девочка обращается к отцу, но читатель/слушатель оказывается в этот диалог вовлечен ситуативно – будучи не/вольным свидетелем незавершенной коммуникации, он гипотетически выступает в роли того, кто такой диалог мог бы продолжить (завершить). Голос «повествователя», сообщающего о происходящем («В парке плакала девочка…»), дополняется в этом случае голосом самой девочки («посмотри-ка..»), безмолвным «голосом» отца и потенциальными «голосами» сторонних свидетелей – читателей/слушателей стихотворения. И вот за шестью строчками стихотворного текста слышится, условно говоря, многоголосие его участников: «хор текста».
Так о чем стихотворение Северянина? О девочке, о папочке, о ласточке? О жалости девочки к ласточке, о жалости папочки к девочке, о прозрении отца, устыдившегося своей возможной строгости к капризам и шалостям дочери? В отечественном стиховедении об исследовательской пользе подобных вопросов писал М. Л. Гаспаров, видя в них
…аналитический парафраз, т. е. обоснованный ответ на простейший вопрос: «о чем, собственно, говорится в этом стихотворении?» В конечном счете такой «пересказ своими словами» (особенно – переводными) – это экзамен на понимание стихотворения: воспринять можно даже то, чего не можешь пересказать, но понять только то, что можешь пересказать101.
Суждение Гаспарова можно счесть излишне прямолинейным и даже дезориентирующим – как если бы оно подразумевало обнаружение некоего исчерпывающего смысла того или иного стихотворения. Но это, конечно, не так. Одно и то же стихотворение можно пересказать по-разному и, соответственно, «ответ на простейший вопрос» оказывается не таким уж простым102.
МЕТР. СИНТАКСИС. КОМПОЗИЦИЯ
В метрическом и интонационном отношении стихотворение «В парке плакала девочка…» прочитывается в первых трех строках как плач. Привычная для Северянина любовь к так называемым сильным цезурам подчеркивает здесь – в границах четырехстопного анапеста с дактилической цезурой и дактилической клаузулой (16 слогов) – значимость словоразделов и ударных констант, заставляющих читать это стихотворение мелодически монотонно и вместе с тем, благодаря сочетанию 3‑го и 2‑го пеона, прерывать чтение своего рода «всхлипами» – из необходимости «отдышаться» перед следующей тактовой группой103. Иначе, по замечанию Барри Шерра, отметившего особенности междуиктовых интервалов в этом стихотворении, его «было бы и трудно написать и еще более трудно продекламировать»104. Сам Северянин назвал бы свой размер «анапестом 4-ст. с кодою в 2 трети» (то есть анапестом с наращением в два слога)105:
В парке ПЛАкала ДЕвочка: посмотРИ-ка ты ПАпочкаУ хоРОшенькой ЛАсточки переЛОмлена ЛАпочкаЯ возьМУ птицу БЕдную и в плаТОчек уКУтаю…И отЕЦ призаДУмался, потряСЁнный минУтою,И простИЛ все гряДУщие и капРИзы и ШАлостиМилой МАленькой ДОчери, зарыДАвшей от ЖАлостиМетрико-ритмическая схема стихотворения выглядит при этом так (с учетом сверхсистемных ударений в первом и последнем стихе: В ПАрке … МИлой):
ÚU−´UU−´UU UU−´UU−´UUUU−´UU−´UU UU−´UU−´UUUU−´ÚU−´UU UU−´UU−´UUUU−´UU−´UU UU−´UU−´UUUU−´UU−´UU UU−´UU−´UUÚU−´UU−´UU UU−´UU−´UU106Произносительная выразительность усугублена здесь же ассонансами (то есть повторением ударных гласных: А-Е-И-А / О-А-О-А / У-Е-О-У / Е-У-Е-У / И-У-И-А / А-О-А-А) и аллитерациями (повторением согласных звуков и их групп: П-П / Л-Л-Л-Л-Л / К-ЧК-К-ЧК / К-ЧК-ЧК / Ч(Е)К-К / Д-Д-Д / З-С / С-Щ-З-Ш / Ч-Ш-Ж). Открытые слоги с полнозвучными гласными позволяют искусственно растягивать слова и придают им подчеркнутую напевность. При этом благодаря серединной цезуре и регулярности наращения каждый стих распадается на два идентичных полустишия (что дополнительно поддерживается в первых двух стихах внутренней рифмой: девочка-папочка-ласточка-лапочка, а в последующих отчетливостью открытого У в словах: беднУЮ-УкУтаЮ-призадУмался-минУтоЮ-грядУщие), так что в результате стихотворение прочитывается как двухстопный анапест со сплошными дактилическими окончаниями. Системность таких окончаний, как давно замечено, в произносительном отношении способствует замедлению темпа, мягкости стихораздела и в целом характерна для повествовательных и медитативных жанров (в нашем стихотворении такая медитативность подчеркивается еще и семантически – словом призадумался)107. Между тем в анапесте
определенно ощущается порыв, стремительность, возможности быстрых нарастаний и спадов, его «волна» принимает часто характер зигзагообразного излома. В анапестических стихах обнаруживаем тенденцию к четному разделу стоп, к более «сильной» (хотя бы и краткой) паузе, к более резкому акценту. Из 3-сложных размеров анапесты выделяются ритмическим богатством и наименьшей ровностью движения108.
Используемый поэтом размер оказывается, таким образом, изначально варьирующим чередование восходящего и нисходящего интонирования и мелодики речи. Анафорическое вступление с глухих согласных (Па-Пла-Па)109 развивается повторением звонких твердых согласных (пЛа-Ло-Ла-пЛа) – при этом эвфонически изысканное наложение глухого и звонкого в словах «ПЛакала… ПЛаточек» и «ПРизадумался ПотРясенный… ПРостил» воспринимается как системный каркас стихотворения (интересный и в том отношении, что аллитерационные повторения в этих случаях находятся в словах разных частей речи).
Фонетическое оформление стихотворения замечательно и своим лексико-орфографическим, почти исчерпывающим «азбучным» строем: на шесть строк в нем 21 согласная буква и 11 гласных (с учетом утраченных в современных публикациях букв ять – ѣ и десятеричного i). При этом доминанты аллитерационных и ассонансных созвучий эффектно оттеняются неожиданным аккордом словосочетания, замечательного восемью различными согласными: «и капризы и шалости».
В незамысловатой «Теории версификации» (1933) Северянин ретроспективно сформулировал свое представление об образцовом стихосложении (все приводимые им здесь же примеры являются примерами из его собственных стихотворений):
Рекомендуется как можно шире пользоваться следующим:
1) Мало использованными или вновь найденными эпитетами, метафорами, антитезами и пр.
2) Обращать усиленное внимание на эвфонию, аллитерацию и градацию.
3) Новыми рифмами (обратив особо-пристрастное внимание на использование гипердактилических рифм), ассонансами и диссонансами, предварительно тщательно их продумав, дабы они звучали.
4) Многостопными обыкновенными, но мало принятыми размерами.
5) Размерами с кодами внутри и размерами смешанными (сложными).
6) Различными фигурами строф и разнообразными стилистическими формами110.
По сути поэт подытожил в этих рекомендациях свои версификационные достижения. Налицо они и в стихотворении «В парке плакала девочка…». Пусть в нем нет новонайденных метафор, редких эпитетов и градации (то есть повторения какой-либо строки или одних и тех же слов в разных строках), в нем есть аллитерации, ассонансы и диссонансы (разные гласные при одинаковых согласных: ПАРке, ПЕРеломлена, ПРИзадумался, ПРОстил, каПРИзы, ПотРЯсенный), гипердактилические рифмы, разнообразные стилистические формы (папочка – отец, девочка – дочь, хорошенькая ласточка – птица), оно благозвучно и написано многостопным, хотя и обыкновенным, но мало принятым размером.
Валерий Брюсов, рассматривавший звукопись пушкинской поэзии, выделял в ней многообразие сложных повторов – последовательного (secutio), перекрестного (geminatio) и обхватного (antithesis)111. Замечательно, что все виды таких повторов употреблены в границах шести строк нашего стихотворения. В очерке «Эстляндские триолеты Сологуба» (1927) Северянин писал о любимом им и «самом изысканном», по его мнению, русском поэте:
Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину, поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий – не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство112.
То же самое можно сказать о стихотворении «В парке плакала девочка…». Ясное по смыслу, оно равно виртуозно и очаровательно по звучанию. «Теснота стихотворного ряда», о которой позже будет писать Юрий Тынянов113, обнаруживает себя в этом случае как паронимическая аттракция (то есть притяжение близкозвучных слов в горизонтальной и вертикальной структуре стиха), соотносящая звучание стихотворения с его образным смыслом114. Здесь в первых трех строках это плач, в трех последних – размышление, этим плачем навеянное115.
Артикуляционный разрыв между первым и вторым трехстишием отмечен многоточием. Для Северянина это не случайный знак. Пунктуационная традиция русской литературы связывает с многоточием смысловую эмфазу, знак внезапного перерыва речи, недоговоренности и задумчивости. Привычными примерами такого рода изобилует сентиментальная литература с характерной для нее меланхолией, слезливостью, экзальтацией и недостаточностью слов для выражения чувств и мимолетных мыслей. Но иногда умолчание указывает не на слезы, а напротив – на ликование, восторг, эмоциональную эйфорию. Как бы то ни было, обособляя на письме фразовые фрагменты, многоточие придает им дополнительную выразительность116. Северянин поступает так же, демонстрируя незаурядную склонность к его употреблению: на 138 стихотворений «Громокипящего кубка» оно отсутствует всего лишь в 16 из них. Этой склонности поэт останется верен и дальше, невольно отсылая если не к узнаваемо сентиментальной, то во всяком случае нарочито и экспрессивно «лирической» традиции русской поэзии117. В нашем стихотворении многоточие – знак паузы и вместе с тем смысловой лакуны, в которой можно увидеть как собственно временной, так и сюжетный интервал (подразумевающий, например, манипуляции по укутыванию ласточки в платочек и минутную задумчивость отца).
Еще одной семантической особенностью стихотворения «В парке плакала девочка» выступает частота уменьшительно-ласкательных суффиксов в производных (лапочка, папочка, платочек, хорошенькая, маленькая) и непроизводных, самостоятельных словах (девочка, ласточка), еще более усиливающих экспрессивно-эмоциональный эффект его первых трех строк118. В целом эффект этот сводится к тому, о чем задолго до появления стихотворения Северянина писал Константин Аксаков в «Опыте русской грамматики»:
Предмет в малом своем виде кажется доступнее, беззащитнее, и потому как бы нуждается в покровительстве; притом грубость форм исчезает, и предмет становится милым. И так мы видим, что кроме размера внешнего, уменьшительное выражает другое, отсюда вытекающее значение милого: малому свойственно быть милым. Самая ласка предполагает уменьшительность предмета, и вот почему для выражения милого, для ласки, употребляется уменьшительное. <…> Чтобы представить предметы милыми, чтобы высказать ласкающее отношение, на них как бы наводится уменьшительное стекло, и они, уменьшаясь, становятся милыми. <…> Оттенки отношения к предмету уменьшенному многочисленны. Кроме милого, предмет принимает характер жалкого, бедного, робкого, возбуждающего о себе это сознание в говорящем <…> Кроме чувства, что этот предмет мне дорог, в говорящем высказывается часто и чувство собственного смирения119.
Наблюдения Аксакова дополнил Александр Потебня, заметивший, что употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов придает и другим словам связываемого с ними высказывания субъективную экспрессию «ласкательности»:
Отличая объективную уменьшительность или увеличительность от ласкательности и пр., в коей выражается личное отношение говорящего к вещи, можно думать, что в последнем случае настроение, выразившееся в ласкательной форме имени вещи (относительного субъекта), распространяется в той или другой мере на ее качества, качества ее действий и другие вещи, находящиеся с нею в связи. Это и есть согласование в представлении120.
Лексико-грамматическим примером такого согласования является, в частности, обстоятельство, подмеченное В. В. Виноградовым:
Формы субъективной оценки заразительны: уменьшительно-ласкательная форма существительного нередко ассимилирует себе формы определяющего прилагательного, требует от них эмоционального согласования с собою (например: маленький домик; седенький старичок и т. п.)121.



