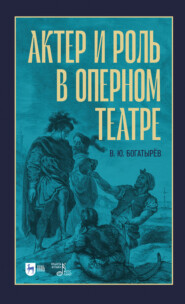
Полная версия:
Актер и роль в оперном театре
Обоснования объективности сравнительного анализа оперы и драмы могут лежать как в теории, так и в практике двух видов театра. Фундаментом такого анализа должен стать ответ на вопрос: что является предметом искусства певца-актера.
«Как бы ни был оригинален и свободен в своих отношениях с первоисточником музыкант-исполнитель, предмет его искусства все-таки всегда тот же самый, который был предметом композитора. И поэтому искусство музыкального исполнительства – это музыкальное искусство»[18].
Но «оперный артист имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, то есть, с вокальным, музыкальным и сценическим. Все три искусства, которыми располагает певец, должны быть слиты между собой и направлены к общей цели»[19].
Триада может быть отмечена и в структуре партии-роли. В теории для певца-актера его партия-роль, как правило, также явлена в трех ипостасях. Это вокальная линия роли; моменты сценического существования, когда актер существует на музыке, относящейся к его персонажу, но не поет; и «чужая музыка», комментирующая или ведущая за собой другой персонаж, когда певец оказывается вне зоны музыкальной образности, относящейся к его персонажу. Сценическое искусство для певца-актера, это умение «быть» на сцене и воплотить свой сценический образ средствами театра и музыки во всяком моменте партии-роли.
Итак, вокальное искусство ведет оперного актера исключительно в момент пения. А музыкальное? Музыкальная стихия, дарованная спектаклю партитурой и не входящая в вокальную линию роли, единовременно явлена публике и певцу оркестром. «Это информация о высотной линии в мелодии (подъемы, спуски, скачки), об общем характере метра и ритма, об инструментальных тембрах и о тембровом характере (акустической окраске) созвучий, о темпе и динамике»[20]. В ней и второй план, и подтекст, и музыкальный манок. В реалиях оперного спектакля музыка может превратиться и в комментарий автора, явленный в сочленении с действием.
Очевидно, что целью певца на театральной сцене является не комбинирование разных состояний или задач, например, пою – слушаю или воображаю – действую, и не формальная иллюстрация вокальной линии роли. Его сверхзадача – создание целостного сценического образа подлинной глубины, силы и достоверности всеми возможными средствами. Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость поспорить с этим обобщающим проблему утверждением. Но что оно дает нам в практической плоскости? Точно так в вокальном искусстве, составляющем основу сценического творчества певца-актера, никто не станет оспаривать аксиому, что «петь надо в резонаторы и на дыхании». И студент-вокалист, и профессиональный певец, и вокальный педагог – все согласятся. Но попробуйте пойти дальше и точно сформулировать методику достижения столь очевидной всем цели, как тотчас обнаружится не просто разность, часто, и противоположность теорий, мнений и методов.
Всякое искусство постоянно стремится стать подобным музыке,[21]
В. ПаретЭто высказывание часто цитировал Михаил Чехов драматическим актерам своей Студии. Здесь есть указание на априорную целостность, неделимость феномена музыки, столь желанную для каждого искусства и, вместе с тем, признание за данным художественным способом отображения действительности способности к универсальному, совершенному, невербальному постижению мира. Тогда драма откровенно завидует опере: «Какое счастье иметь в своем распоряжении такты, паузы, метроном, камертон, гармонизацию, контрапункт, выработанные упражнения для развития техники, терминологию, обозначающую те или иные артистические представления и понятия о творческих ощущениях и переживаниях»[22]. Наибольшую ценность в данном высказывании представляет соотнесение музыкальной терминологии и практики с «представлениями и понятиями» актерской психотехники. Но стоит ли завидовать актеру оперного театра? Точность пауз, метроном и звуковысотность фиксируют роль, но как подчинить свою индивидуальность, собственные переживания и чувствования этому диктату? Вот еще одна цитата из Станиславского: «К удивлению, текст мешал мне, а не помогал, и я охотно обошелся бы без него или сократил его наполовину. Не только слова роли, но и чужие мысли поэта и указанные им действия стесняли мою свободу, которой я наслаждался во время этюдов дома».[23] Если текст роли, в данном случае поэзия Шекспира, имеющий лишь стихотворный размер, то есть с точки зрения музыкального метронома ритм и тон весьма приблизительный, так ограничивали творческую фантазию Станиславского-актера, можно представить, как деспотичен текст музыкальной партитуры для оперного артиста.
Таким образом, аксиома К. С. Станиславского о необходимости возбуждения бессознательного сознательным путем для актера оперного театра приобретает новое звучание. Сама возможность сознательного соотнесения комплекса сценических задач, встающих на сцене перед певцом-актером, исполняющем свою вокальную партию-роль, в которой текст становится музыкальной структурой, обладающей звуковысотностью, темпом, ритмом, динамикой, оказывается идеальной, прекрасной, но абсолютно утопичной. Это всего лишь представления драмы о природе сценического творчества, о своей собственной природе, где осознанная необходимость, например, одномоментно сыграть не одно чувство, но гамму чувств, есть отражение реалий драматического искусства. Ситуация в теории театра, пытающегося найти единую формулу актерского творчества на сцене, очень напоминает остроту сегодняшних проблем во взаимоотношениях между разными культурами, народами, когда за идеальную и правильную модель принимается один опыт, одна философия, один причинно-следственный ряд, сформированный в отличных от остальных участников реалиях и условиях. Поиск подлинных законов сценического творчества певца-актера и является задачей данной книги.
«Вся духовная и физическая природа актера должна быть устремлена на то, что происходит с изображаемым лицом. В минуты „вдохновения“, то есть непроизвольного подъема всех способностей актера, так оно и бывает».[24] Предположим, что вдохновение певца-актера рождается и высоким градусом драматического конфликта, выраженного музыкой, и в певческом мастерстве, дающем возможность глубоко чувствовать и живописать свои переживания звуком; в динамике звучания голоса, в изменчивости его тембра, в распетом или вокально-артикулирован-ном слове певцу открывается светотень душевных переживаний, многомерность характера и поступков его персонажа.
Проблема лежит в иной плоскости – не что, а как происходит, то есть каковы механизмы возникновения единой линии роли в оперном спектакле? Упование на моменты сценического вдохновения, возникающие всегда произвольно, даже если они дарованы музыкой, не дают такой возможности. «Переход „порога сцены“ в момент оркестрового вступления к вокальному эпизоду, у певца-актера, как правило, совпадает с обретением особого самочувствия. В состоянии измененного сознания активизируется невербальная, эмоциональная, интуитивная память; выступая под маской озарения, она самостоятельно обнаруживает неожиданные „ходы“ в решении поставленной перед сознанием задачи, выражаемые в спонтанных сценических „находках“, что свидетельствует о независимой жизни персонажа»[25].
Это точное описание ощущений человека поющего может быть подтверждено мнениями многих и многих оперных певцов. Но оно ничего не объясняет в моментах «оркестрового вступления», то есть в том времени, когда персонаж на сцене существует, но не поет, когда он публике предъявлен, но лишен «права голоса». Данная проблема может быть решена только через понимание дуалистичности искусства певца-актера, феномена его психотехники и определения структуры роли в опере.
Вопросы актерской техники, весь комплекс взаимоотношений актера и роли встают перед вокалистом, посвятившим свое творчество оперному театру. «Что поддается сознательному управлению? Мышление вытягивает за собой картинки-видения, или, наоборот, последовательность видений возбуждает соответствующее мышление?».[26] В анализе данной проблемы теория театра ищет ответ, определяющий природу актерского творчества в драме. Даже если предположить, что этот вопрос будет, наконец, решен, может ли это означать, что данное теоретическое обоснование станет практическим руководством к действию и в опере?
«Для сознательного возбуждения творческого самочувствия необходимо искать пути погружения в воображаемую действительность».[27] Теорией и практикой драматического искусства разработана «школа» погружения в глубины актерского воображения. Но для оперного театра воображаемая действительность задается иными средствами – не прозаическим текстом, а музыкальной партитурой спектакля, где слово лишь часть, а фабула либретто – только повод для погружения композитора в создаваемую его воображением новую реальность.
Так называемая персонификация музыкальных образов, их визуализация и переход их из мира «чистой музыки» в сценическое пространство происходит через феномен соединения мелодии и поэтического текста. Логично предположить, что такое изменение «предлагаемых обстоятельств» в опере по отношению к драме влечет за собой трансформацию или, по крайней мере, корректировку механизма приведения актерского воображения в состояние, необходимое для сценического творчества.
Здесь происходит еще одно «усложнение» вопроса. Возникает проблема оценки драматургического метода композитора, заключенного в тексте партитуры, и его влияния на взаимоотношения актера и роли в оперном театре. Принимая во внимание практику написания опер, принятую вплоть до середины XIX века, сложно представить, чтобы драматическое осмысление типизированных до схематизма сценических положений персонажа в эстетике барокко было «сверхзадачей» композитора. В таком случае естественно предположить, что и «сверхзадачей» исполнителя в такой опере не может быть конфликт, разрабатываемый, вскрываемый средствами действенного анализа роли или всей пьесы. Из этого следует очевидный вывод: предмет оперы эпохи музыкального барокко – не предмет драмы в ортодоксальном, то есть сегодняшнем ее понимании. Музыка, поэзия и их сценический комментарий, интерпретирующие партитуру в таком спектакле, постигают художественную сущность произведения иными, «не драматическими» средствами.
Но как отражается это положение на певце, нашем современнике, выходящем на сцену в начале XXI века в опере Г.-Ф. Генделя или А. Вивальди? И как изменится, или, точнее, как должна измениться психотехника того же певца-актера, если на завтра ему предстоит воплощать образы, созданные драматургическими гениями В.-А. Моцарта, Р. Вагнера, Дж. Верди, Д. Шостаковича?
В начале XVII века опера создавалась как идеальная форма драмы. На актера нового вида театрального искусства его создатели возлагали особые надежды по возрождению традиций высоких образцов древнегреческой трагедии. Я. Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди увлекала идея соединения в пропорциях золотого сечения музыки, поэтического и пластического начал, прежде всего, именно в искусстве в певца-актера.
Сегодня, напротив, певец в опере являет собой не пример для восхищения и подражания в мире театра, а вызывает снисходительную улыбку музыкантов-инструменталистов или актеров драмы. Первые удивлены поздним приходом вокалиста в профессию – серьезно пению начинают учиться никак не ранее шестнадцати лет, тогда как скрипач или пианист к этому времени уже сформировавшиеся музыканты. Вторые видят в оперном певце «неумелого лицедея», так как на сцене человек поющий нередко похож на актера – он озабочен качеством звука, может странно выглядеть и только костюмом визуально обозначать персонаж, явленный на сцене.
В соотнесении задач точного воспроизведения рисунка партии-роли, зафиксированной композитором, и способов сценического существования певца-актера лежат ответы на важнейшие вопросы оперного искусства: что есть психотехника актера оперного театра? Как ее объективная реальность соотносится с театральными системами и практиками К. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда, Н. Демидова, Е. Гротовского?
Станиславский говорил об актерских упражнениях как о гаммах и арпеджио. Удивительно, как мы привыкаем смотреть на предмет с какой-то одной стороны. «Переставим слагаемые» этого утверждения. Получится, что сами гаммы и арпеджио для оперного певца должны быть актерским упражнением? Во многом так оно и есть.
В процессе вокализации заключен основной тренинг (не только физический, фонационный, но и эмоциональный, психологический) всякого певца. Для певца-актера вокальные упражнения занимают первое место, а все прочие тренинги – актерское мастерство, сценическое движение или танец – становятся дополнительными, сопутствующими. Они интересны ему только сквозь призму вокала и музыки – главных средств его сценического творчества. Все как в современной системе воспитания актера драмы, только зеркально, наоборот.
При этом «певцы в смысле чисто театральной культуры очень отстали от драматических артистов. Дальше постановки голоса, пущенного звучка, верхней, грудной, закрытой, открытой ноты их искусство и представления о нем не идет»[28]. За истекшие восемьдесят лет, то есть со времени основания Опернодраматической студии К. С. Станиславским мало что изменилось в отечественном оперном театре.
«У певцов, даже очень молодых существует несколько лекал, неких способов и представлений о сценическом поведении в опере. Молодой человек, современный, органично чувствующий себя в городской среде, на улице, в быту, попадая в „волшебный мир кулис“ [речь идет об оперном театре. – прим. В. Б.] становится странным существом. Они не приносят в театр современную энергию, но становятся какими-то монстрами»[29].
Актерское мастерство певцы изучают в консерваториях с тем же усердием, с каким студенты драматического факультета поют в актерских вузах: это может быть увлекательно, но вряд ли всерьез пригодится. И если для последних такая точка зрения обоснована практикой драматического театра, то для студентов консерваторий, мечтающих об оперном Олимпе, пренебрежение актерским образованием сегодня вряд ли оправданно.
Владение техникой сценического творчества формирует профессиональные навыки артиста, является главным средством достижения целей его искусства. Это понятие включает сценическое внимание, мышечную свободу, физическое самочувствие, память физического действия, память ощущений, характерность, пробуждение воображения. В статье «Загадки творчества» Михаил Чехов призывает актера владеть своим инструментом и различает в его творчестве «две вещи: „Я“ и „моя роль“. В этом „Я“ слито в хаосе и незнание своего инструмента, могущего быть отдельным от „я“, и незнание „я“ как того, кто бы должен владеть инструментом»[30].
Перед оперным певцом стоят те же задачи. Вероятно, певец, достигающий наибольшего воздействия на публику именно в момент певческой фонации, является и в этот момент спектакля более всего не музыкантом, но актером. Размышляя об общности «больших артистов» – в том и в единственном числе из оперных актеров о Ф. Шаляпине, К. Станиславский отмечал: «В творческом состоянии большую роль играет телесная свобода, отсутствие всякого мышечного напряжения и полное подчинение всего физического аппарата приказам воли артиста /курсив В. B.J»[31].
К сожалению, эволюция оперного искусства обусловила возникновение лишь классической системы музыкального образования. Проблема постижения механизмов актерского творчества всегда оставалась на периферии внимания данного вида театра, а явление подлинного певца-актера вызывало восхищение, демонстрировало беспредельные возможности искусства оперы – и только. Многие тома посвящены явлению Ф.И. Шаляпина. Досконально исследован его творческий путь, проанализирован вклад в эволюцию эстетики оперы. Но системы воспитания актера в таком театре, сопоставимой с методиками драматического театра, сегодня все еще не существует.
Очевидно, что в определении подлинных законов взаимодействия актера и роли в оперном театре пребывание в ортодоксальных, косных своей самонадеянностью системах не может решить задачу оценки результатов соединения музыки и театра в творчестве певца-актера. Они всегда допускают существование отдельных отличий драматического и музыкального театров, но не способны признать очевидную трансформацию законов драмы музыкой или, напротив, несомненное влияние драмы на стихийную чувственность в оперных жанрах. В этом и заключается проблема создания системы актерского воспитания в опере.
История оперного театра неопровержимо указывает на существование психотехники актера-певца. На то, что эта техника имеет как общности, так и различия в своей природе с актерской техникой в других театральных видах. Наличие такой самобытной техники актерского творчества предполагает, что сценическое воплощение партии-роли певцом-актером имеет свои непреложные закономерности. «Был Щепкин. Создал русскую школу, которой мы считаем себя продолжателями. Явился Шаляпин. Он тот же Щепкин, законодатель в оперном деле»[32]. Фёдор Иванович Шаляпин – «законодатель». Но точка зрения великого певца-актера на актерское искусство в опере, плохо коррелируется с Системой, предложенной Константином Сергеевичем Станиславским. И ни одна другая «система», разработанная драмой исчерпывающе и полно не становится альфой и омегой для актера музыкального театра. Почему так?
В первой четверти XXI столетия эстетика современного нам оперного театра радикально, революционно трансформирована. На этот раз не композитор-драматург, не дирижер, а именно режиссер, пришедший в оперу из драмы, ищет возможность соответствия оперного искусства общему театральному контексту нашего времени. Оперному театру посвящены значительные научные труды. Но вопрос, в какой степени трансформация оперного искусства по образу и подобию драматического театра первой четверти XXI столетия затрагивает принципы сценического творчества певца-актера, не только не выяснен, но, кажется, и не поставлен.
История эволюции жанров в оперном искусстве простирается от подражаний древнегреческой трагедии, средневекового мадригала и commedia dell'arte до романтической, народной драмы или реалистического театра. В этом бесконечном многообразии моделей оперы факт симбиоза искусств изучен театроведением; феномен рождения музыкальной драматургии в процессе синтеза музыки и драматической поэзии исследовался музыкознанием. Но предпринятая создателями оперного искусства попытка возвращения к синкретическому идеалу древнегреческого театра в фигуре певца-актера, все еще не отнесена историками и практиками театра к безусловным достижениям оперы. Сам же феномен взаимодействия певца-актера с текстом партии-роли в исторической ретроспективе, природа психотехники певца-актера в оперном театре никогда прежде в рамках искусствоведения комплексно не рассматривались.
Глава I
Музыка и драма
И так же как скульптура, соприкасаясь с живописью, в сущности своей – совершенно другой природы, так и опера с драмой: соприкасаются, но в актерской сущности совершенно различны.
Демидов Н. В.Когда мы сталкиваемся с рассуждениями об опере, как о чем-то случайно возникшем, искусственно созданном, то основанием для подобных суждений служат два факта. Первый лежит в плоскости театра: это условность данного вида, получившего при своем рождении имя dramma per musica, то есть драма на музыке. Привычный для нас перевод с итальянского языка на русский слишком однозначен – per у итальянцев может означать для, вместо, через; то есть может быть и драма для музыки, и драма вместо музыки, драма через музыку.
Не стремясь отдать предпочтение той или иной видообразующей стороне феномена оперного театра вольным переводом, обратим внимание лишь на априорно существующую искусственность сценического языка в опере. Для театра «не музыкального» она чрезмерна, в такой драме люди на сцене поют, а не
говорят. Противопоставляя правдивость современного нам драматического театра музыкальной стихии оперного искусства, такая критика совершенно упускает из виду тот факт, что подражание, а не буквальное отображение жизни, лежит в основании всякого театра. В любом виде театра бытовая естественность и обусловленная эстетикой своего времени естественность театральная не тождественны. «Театральная правда всегда абсолютна в ощущениях и относительна в исполнении».[33]
Очевидно, что всякий театр может поставить своей задачей максимально точное отображение реальной жизни. Но его язык, подражающий реальному действию художественными средствами – словом, музыкой, танцем, трансформирует идею такого буквального отображения. Язык театрального действия будет всегда играть роль материи, воплощающей, но и трансформирующей первоначальную идею.
Сама необходимость создания еще одного мира, тождественного реальности бытия, в принципе абсурдна. Феномен театра и сформировался как уход от реального или, по меньшей мере, из необходимости создания иных пространств и измерений. Единство пространства и времени в нем разделены рампой на два мира, противопоставлены один другому. Публика может жаждать развлечений, представляемых ей на обозрение, или уподоблять сценическое действие сакральному служению, а сцену отождествлять с алтарем, на котором воздаются духовные жертвы. Разделение мира на сцену и зрительный зал, то есть на театр и весь остальной мир, или на актера и зрителя, формирует род данного искусства.
Размежевание феномена театра, изначально синкретичного и неделимого, – факт исторически объективный. Так же очевидно, что в эволюционировании видов театра принимали участие многие искусства, своим развитием обусловившие выделение частей из целого. Этот процесс определил структуру, форму и язык драматического, оперного, балетного, кукольного театров. Оттого и логично предположить, что одному сценическому феномену ближе и важнее литература, а другим – живопись или, например, скульптура. При этом если речь идет не об искусствах, а о литературе, такая дифференциация может быть продолжена. Например, одному театральному языку более соответствует проза, а другому – поэзия.
Подходя к анализу феномена оперного искусства, мы можем лишь обозначить данное явление и оговорить заранее факт взаимопроникновения видов, которые, в поисках возможностей собственного эволюционирования и как бы вспоминая прежнее единство, обращаются к опыту друг друга.
История возникновения нового вида театраИсходя из этимологии греческого слова poieo – делаю, творю всякое театральное искусство поэтично. Именно из «Поэтики» Аристотеля и возникает эстетика и теория европейского искусства. Но для оперы, при рождении попытавшейся вернуться к синкретическим идеалам греческого театра, понятие поэтической метафоры приобретает особый смысл и значение.
Язык оперы, рожденный в единении музыки, пения и театра, для людей, лишенных радостей слухового восприятия мира, малопонятен и, как следствие, непригоден к художественному познанию мира. Теоретики и практики театра не музыкального сегодня смотрят, а не слушают оперу и судят ее строго своим собственным законом.
Очень часто оперу не любят и музыканты, что удивительно лишь на первый взгляд, – они не принимают данный вид театра столь же яростно, как и люди, далекие от традиций классической музыки. Причина неприятия последних имеет свою природу. Для музыканта факт подчинения совершенного, невербального познания мира средствами музыки, сама необходимость ее визуального выражения, представляющая элемент иного искусства в явлении dramma per musica, может противоречить основам музыкального мышления, пониманию истинного предназначения его искусства.
Если же музыканта и захватывает оперная партитура, например, творчество Вагнера, то сам принцип иллюстрации музыки движениями актеров, чего непременно требует композитор в теории, приложенной к его музыкальной драме [здесь этот термин обозначает не оперу вообще, а принятое в музыковедении определение опер композитора-реформатора. – прим. В. Б.], выводит многомерность сферы музыкального мышления, его художественный метод отражения реальности в ограниченность трех пространственных измерений. Более того, ни эстетика современной драмы, стремительно завоевывающая сегодня оперу, ни тем более бутафория и декорации традиционных постановок в эстетике так называемой повествовательной режиссуры не смогут удовлетворить тех, кто понимает и любит не оперный театр, а сокровища партитур вагнеровского «Кольца».
Таким образом, поклонники музыкальной стихии в опере критикуют ее сценическое воплощение, а сторонники «чистой», инструментальной музыки, не использующей ни вербальную выразительность, ни зрелищность театрального действа, считают само возникновение оперы ошибкой в эволюции европейской музыкальной культуры.
Такой взгляд на этот вид театра, разумеется, тоже требует «научного обоснования». В ход идут аргументы, описывающие возникновение оперы как некую случайность: музыка Средневековья своим основанием имеет григорианский хорал и полифонию, а подражание древнегреческой трагедии в понимании «Флорентийской камераты» с ее stile rappresent ativo [с ит.: речитативный стиль – прим. В. Б.] якобы нарушило естественный путь развития музыкальной культуры Европы. Такое объяснение не может быть верным.



