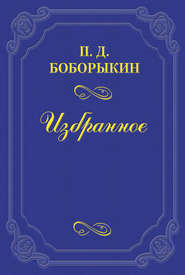 Полная версия
Полная версияЗа полвека. Воспоминания
Жил он в тесной квартирке в глубине двора на длиннейшей rue Saint-Jacques. Помню, я его нашел раз в обществе каких-то русских курсисток, они принесли ему ягод, до которых он был охотник. И, продолжая горячую беседу, он доставал вишни из пакета, ел их и выплевывал косточки.
Мое общее впечатление было такое: он и тогда не играл такой роли, как Герцен в годы "Колокола", и его "платформа" не была такой, чтобы объединять в одно целое массу революционной молодежи. К марксизму он относился самостоятельно, анархии не проповедовал; а главное, в нем самом не было чего-то, что дает агитаторам и вероучителям особую силу и привлекательность, не было даже и того, чем брал хотя бы Бакунин.
Собственно "лавровцев" было мало и в Париже, и в русских столицах. Его умственный склад был слишком идейный. Я думаю, что высшего влияния он достиг только своими "Историческими письмами". Тогда же и в Париже, а потом в Петербурге и Москве, как известно, наша молодежь после увлечения народничеством и подпольными сообществами ушла в марксизм или делалась социал-революционерами и анархистами-экспроприаторами, что достаточно и объявилось в движении 1905–1906 годов.
XVОпять – несколько шагов назад, но тот эмигрант, о котором сейчас пойдет речь, соединяет в своем лице несколько полос моей жизни и столько же периодов русского литературного и общественного движения. Он так и умер эмигрантом, хотя никогда не был ни опасным бунтарем, ни вожаком партии, ни ярым проповедником «разрывных» идей или издателем журнала с громкой репутацией.
Это был Владимир Иванович Жуковский.
Впервые познакомился я с ним в коридорах Петербургского университета, когда мне привелось держать там экзамен на кандидата в сентябре 1861 года. Выходит, стало быть, что мы с ним ближайшие сверстники, если не ровесники: он был, вероятно, помоложе меня года на два, на три. Я был раньше (в годы моего студенчества в Казани) товарищем его старшего брата, Григория Ивановича, сделавшего потом блестящую судебную карьеру; он кончил ее званием сенатора.
Владимир Иванович попал в эмиграцию из-за горячего сочувствия польскому восстанию. Это послужило толчком дальнейшим его житейским мытарствам. В России он не сделался вожаком ни одной из тогдашних подпольных конспирации. Его платформа была сначала чисто политическая; а о марксизме тогда еще и разговоров не было среди нашей молодежи.
За границей я стал встречаться с ним опять в Швейцарии, где он поселился в Женеве и скоро сделался как бы "старостой" тогдашней русской колонии; был уже женат на очень милой женщине, которая ухаживала за ним, как самая нежная нянька.
А ухаживать надо было. Жуковский оставался весь свой век большим ребенком: пылкий, увлекающийся, податливый во всякое приятельство, способный проспорить целую ночь, участвовать во всякой сходке и пирушке. В нем жил гораздо больше артист, чем бунтарь или заговорщик. Он с детства выказывал музыкальное дарование, и из него мог бы выйти замечательный пианист, предайся он серьезнее карьере музыканта.
В Женеве он поддерживал себя материально, давая уроки и по общим русским предметам, и по фортепианной игре. Когда я (во время франко-прусской войны) заехал в Женеву повидаться с Лизой Герцен, я нашел его ее учителем. Но еще раньше я возобновил наше знакомство на конгрессах "Мира и свободы", всего больше на первом по счету из тех, на какие я попадал, – в Берне.
Тогда он держался группы приверженцев Бакунина, но я не знаю, был ли он убежденный и упорный анархист; скорее сомневаюсь в этом. Слишком он любил жизнь, культурность, все приманки общественности, которая ведь создана была почти исключительно "буржуями". И никогда я не слыхал, чтобы он что-нибудь проповедовал ярко разрушительное. К Бакунину он относился с полной симпатией, быть может, больше, чем к другим светилам эмиграции той эпохи, не исключая и тогдашних западных знаменитостей политического мира: В.Гюго, Кине, немецких эмигрантов – вроде, например, обоих братьев Фохт.
XVIИ так вот и скоротал он свой век, сидя все в Женеве, и представлял собою тип вечного студента 60-х годов. Не думаю, чтобы кто-нибудь брал его «всурьез» как заговорщика или влиятельного человека партии.
В последний раз виделись мы уже давно, зимой в Женеве. Это было в самом начале 90-х годов. Я тогда создавал свой большой роман "Перевал", который кто-то в печати назвал в шутку: "Сбор всем частям русской интеллигенции". В виде вступления я задумал главу, где один из героев романа вспоминает о том, как он ездил "прощаться" с обломками тогдашней русской эмиграции во французскую Швейцарию. Это проделал я сам. Направляясь зимой (это было под Новый год) на французскую Ривьеру, я навестил в Женеве и Лозанне несколько эмигрантов, доживавших там свои дни. В памяти моей остались две типичные фигуры: одна в Лозанне, другая в Женеве.
Лозаннский, уже пожилой эмигрант, жил в мансарде; потерял надежду вернуться на родину и переживал уже полную "резиньяцию", помирился с горькой участью изгнанника, который испытывал падение своих молодых грез и долгих упований. Но другой, в Женеве, из земских деятелей, оставался все таким же оптимистом. На прощанье он мне говорил, пожимая мне руку, с блеском в глазах:
– Вы будете надо мною смеяться; но я до сих пор верую в то, что вот сейчас подкатит к подъезду нашего дома тройка, возьмет меня и помчит на родину, освобожденную от ее теперешних оков.
Дожил ли он до этого радужного момента – не знаю: ведь это было более четверти века назад. Может, и дожил!
Жуковский прибежал ко мне в гостиницу (я останавливался в Hotel du Russie), и у нас сразу завязалась одна из тех бесконечных бесед, на какие способны только русские. Пролетело два, три, четыре часа. Отворяется дверь салона, и показывается женская фигура: это была жена милейшего Владимира Ивановича, все такого же молодого, пылкого и неистощимого в рассказах и длинных отступлениях.
– Простите, Петр Дмитриевич! – начала она с тихой и тонкой усмешкой, – я пришла напомнить Владимиру Ивановичу, что надо и вас пожалеть. Он, я думаю, совсем вас заговорил!
Я ее успокоил; она вскоре удалилась, а наша беседа протянулась еще на добрый час.
Плеханова (с которым я до того не был знаком) я не застал в Женеве, о чем искренно пожалел. Позднее я мельком в Ницце видел одну из его дочерей, подруг дочери тогдашнего русского эмигранта, доктора А.Л.Эльсниц, о котором буду еще говорить ниже. Обе девушки учились, кажется, в одном лицее. Но отец Плехановой не приезжал тогда в Ниццу, да и после я там с ним не встречался; а в Женеву я попал всего один раз, мимоездом, и не видал даже Жуковского.
XVIIНа конгрессах «Мира и свободы» знакомился я и с другими молодыми эмигрантами, сверстниками Жуковского. Одного из них я помнил еще во время студенческих беспорядков в Петербургском университете, тотчас после моего кандидатского экзамена, осенью 1861 года. Это был Н.Утин, игравший и тогда роль вожака, бойкий, речистый, весьма франтоватый студент. С братом его, Евгением, я позднее водил многолетнее знакомство.
В Швейцарии Н.Утин считался тогда как бы главным адъютантом Бакунина. Он выступал, кажется, и на конгрессе в Базеле, на который я попал; но что он говорил с трибун, улетучилось из моей памяти. Я больше наблюдал ту "банду" (как ее называли), которая группировалась вокруг него: все из молодых дамочек и девиц. Одна была хорошенькая. Он держался как их староста. Какие между ними существовали отношения – распознать было нелегко. Они все говорили друг другу "ты" и употребляли особый жаргон, окликая себя: "Машка", "Сашка", "Варька"! Мне привелось долго вбирать в себя этот жаргон, очутившись с ними в одном вагоне уже после конгресса. Всю дорогу они желали "epater" (епатировать, ошеломлять как говорят французы) умышленной вульгарностью своих выражений. Дорогой они ели фрукты. И все эти дамы не иначе выражались, как:
– Мы лопали груши. Или:
– Мы трескали яблоки.
Немало был я изумлен, когда года через два в Петербурге (в начале 70-х годов) встретился в театре с одной из этих дам, "лопавших" груши, которая оказалась супругой какого-то не то предводителя дворянства, не то председателя земской управы. Эта короста со многих слетела, и все эти Соньки, Машки, Варьки сделались, вероятно, мирными обывательницами. Они приучились выть по-волчьи в эмигрантских кружках, желая выслужиться перед своим "властителем дум", как вот такой Н.Утин.
Но и он – во что обратился с годами? Из "страшного" анархиста и коммуниста сделался дельцом, попал в железнодорожные воротилы, добился амнистии и приехал на место с крупным окладом в Петербург, где я с ним и столкнулся раз в Михайловском театре.
Он наметил движение, как бы желая подойти ко мне и протянуть мне руку, но я уклонился и сделал вид, что не узнал его. И тогда мне сразу и так ярко представился вагон и он посреди своих амазонок, вспомнился его тон вместе с самодовольной игрой физиономии; а также тот жаргон, какому он научил своих почитательниц, всех этих барынек и барышень, принявших добровольно прозвища Машек, Сонек и Варек.
XVIIIВторую половину 60-х годов я провел всего больше в Париже, и там в Латинском квартале я и ознакомился с тогдашней очень немногочисленной русской эмиграцией. Она сводилась к кучке молодежи, не больше дюжины, – все «беженцы», имевшие счеты с полицией. Был тут и офицер, побывавший в польских повстанцах, и просто беглые студенты за разные истории; были, кажется, два-три индивида, скрывшиеся из-за дел совсем не политических.
То, что было среди них более характерного, то вошло в сцены тех частей моего романа "Солидные добродетели", где действие происходит в Париже. Что в этих портретных эскизах я не позволял себе ничего тенденциозно-обличительного, доказательство налицо: будь это иначе, редакция такого радикального журнала, как "Отечественные записки" Некрасова и Салтыкова, не печатала бы моей вещи. Но, разумеется, я не мог смотреть на эту эмиграцию снизу вверх; не мог даже считать ее чем-нибудь серьезным и знаменательным для тогдашнего русского политического движения. Тут собрался разный народ: "с борка да с сосенки". Это было тотчас после польского восстания и каракозовского выстрела. Трудно было и распознать в этой кучке что-нибудь вполне определенное в смысле "платформы". Было тут всего понемножку – от коммунизма до революционного народничества.
Группа в три-четыре человека наладила сапожную артель, о которой есть упоминание и в моем романе. Ее староста, взявший себе французский псевдоним, захаживал ко мне и даже взял заказ на пару ботинок, которые были сделаны довольно порядочно. Он впоследствии перебрался на французскую Ривьеру, где жил уроками русского языка, и в Россию не вернулся, женившись на француженке.
К этой же "мастерской" принадлежал, больше теоретически, и курьезный нигилист той эпохи, послуживший мне моделью лица, носящий у меня в романе фамилию Ломова. Он одно время приходил ко мне писать под диктовку и отличался крайней первобытностью своих потребностей и расходов.
Выражение из его жаргона, что отец и мать у него "подохли", – мною не выдумано. Он, вероятно, и не стал бы отрицать его. Совершенно неожиданно явился он ко мне в Нижнем, где он проживал, кажется, в виде поднадзорного обывателя. Это было уже гораздо позднее. Хмуро-добродушно он намекал мне в разговоре на то, что в моем романе имеется лицо, довольно-таки на него похожее. Но "идейных" разговоров я ни с ним, ни с его парижским товарищем не водил. Видал я их и у моего тогдашнего приятеля Наке, когда тот отсиживал в лечебнице, приговоренный за участие в каком-то заговоре, где оказалось наполовину провокаторов. Это было в конце наполеоновской эпохи.
Эта парижская эмиграция была только первая ласточка того наплыва русских нелегальных, какие наводнили Латинский квартал в Третью республику, в особенности с конца 80-х годов, а потом – после взрыва нашего революционного движения 1905 года.
XIXЛондон в истории русской эмиграции сыграл, как известно, исключительную роль. Там был водружен первый по времени «вольный станок», там раздавался могучий голос Герцена; туда в течение нескольких лет совершалось и тайное и явное паломничество русских – не одних врагов царизма, а и простых обывателей: чиновников, литераторов, помещиков, военных, более образованных купцов.
Лондон долго не делался главным центром нашего политического изгнанничества. Герцен привлекал всех, но вокруг него сгруппировалась кучка больше западных изгнанников: итальянцев, мадьяр, поляков, немцев, французов. Из эмигрантов с именем были ведь только двое: Огарев и Бакунин. Остальные русские писатели, как Чернышевский или Михайлов, только наезжали. И с оставлением Герценом Лондона он потерял для русской свободной интеллигенции прежнюю притягательную силу. Кажется, первые годы после переезда Герцена на континент вряд ли осталась в Лондоне какая-нибудь политическая приманка; по крайней мере ни в 1867 году, ни в 1868 году (я жил тогда целый сезон в Лондоне) никто мне не говорил о русских эмигрантах; а я познакомился с одним отставным моряком, агентом нашего пароходного общества, очень общительным и образованным холостяком, и он никогда не сообщал мне ни о каком эмигранте, с которым стоило бы познакомиться.
Одного настоящего эмигранта нашел я, правда, в 1867 году, хотя по происхождению и не русского, но из России и даже прямо из петербургской интеллигенции 60-х годов. О нем у нас совсем забыли, а это была оригинальная фигура, и на ее судьбу накинут как бы флер некоторой таинственности.
Про него я упоминаю в моих лондонских очерках в книге "Столицы мира" и здесь вкратце напомню о нем. Это был А.И.Бенни (Бениславский), сын протестантского пастора из евреев и кровной англичанки, родившийся и воспитанный в русской Польше. Он рано выучился бойко говорить и писать по-русски, примкнул к нашему радикальному движению начала 60-х годов и отправился по России собирать подписи под всероссийским адресом царю о введении у нас конституции. Он сделался сотрудником газет и журналов и писал в моем журнале "Библиотека для чтения", был судим по какому-то политическому процессу и, как иностранец, подвергся высылке из России. Я его нашел в Лондоне в сезон 1867 года. Он знакомил меня с тогдашним литературным Лондоном; но ни о каких русских эмигрантах он мне ничего не говорил. Судьба этого неудачника довела до печального конца: шальная пуля папского зуава ранила его, когда он был корреспондентом при отряде Гарибальди. И он умер от своей раны в римском госпитале, сойдя в могилу с какой-то тенью подозрений, от которых его приятель Н.С.Лесков защищал его в особой брошюре, вышедшей вскоре после его кончины.
XXПролетело целых двадцать лет, и весной 1895 года я поехал в Лондон «прощаться» с ним и прожил в нем часть сезона.
В этот перерыв более чем в четверть века Лондон успел сделаться новым центром эмиграции. Туда направлялись и анархисты, и самые серьезные политические беглецы, как, например, тот русский революционер, который убил генерала Мезенцева и к году моего приезда в Лондон уже успел приобрести довольно громкое имя в английской публике своими романами из жизни наших бунтарей и заговорщиков.
В России я его никогда нигде не встречал, да и за границей – также. Он засел в Лондоне, как в самом безопасном для него месте. Тогда французская республика уже состояла в "альянсе" с русской империей, и такой видный государственный "преступник" был бы не совсем вне опасности в Париже. Он сравнительно скоро добился такой известности и такого значительного заработка как писатель на английском языке, что ему не было никакой выгоды перебираться куда-нибудь на материк – в Италию или Швейцарию, где тем временем самый первый номер русской эмиграции успел отправиться к праотцам: Михаил Бакунин умер там в конце русского июня 1876 года.
Моим чичероне по тогдашнему Лондону (где я нашел много совсем нового во всех сферах жизни) был г. Русанов, сотрудник тех журналов и газет, где и я сам постоянно писал, и как раз живший в Лондоне на положении эмигранта.
Ему хотелось, кажется, чтобы я познакомился с "устранителем" генерала Мезенцева. Я не уклонился от этой встречи и не искал ее. Между нами была та связь, что он стал также романистом (под псевдонимом Степняка), но я – грешный человек! – до тех пор не читал ни одной его строки. Так я и уехал из Лондона, не познакомившись с ним. Должно быть, судьбе не угодно было этого, потому что в то воскресенье, когда г. Русанов пригласил меня к себе (у него должен был быть еще и другой не менее известный изгнанник, князь Кропоткин), я уехал на остров Уайт (еще накануне) и нашел у себя по возвращении его письмо со вложением двух депеш: от Степняка и от князя Кропоткина, с которым я также до того нигде не встречался. Его личность, судьба и руководящая роль меня больше интересовали. И я был приятно изумлен, найдя в его-депеше к г. Русанову искреннее сожаление о том, что нездоровье помешало ему быть у него и познакомиться с автором тех романов… и тут стояло такое лестное определение этих романов, что я и теперь, по прошествии более двадцати лет, затрудняюсь привести его, хотя и не забыл английского текста.
Тем и завершилось мое знакомство с нелегальным Лондоном, и я точно не знаю, какую роль столица Великобритании играла для русской эмиграции в самые последние годы, вплоть до нашей революции.
XXIТеперь, не покидая Франции, вспомню о знакомстве с теми эмигрантами, которые жили там подолгу. Один из них и умер в Ницце, а другой – в России.
Это были доктора Якоби и Эльсниц, оба уроженцы срединной России, хотя и с иностранными именами.
Первого из них я уже не застал в Ницце (где я прожил несколько зимних сезонов с конца 80-х годов); там он приобрел себе имя как практикующий врач и был очень популярен в русской колонии. Он когда-то бежал из России после польского восстания, где превратился из артиллерийского офицера русской службы в польского "довудца"; ушел, стало быть, от смертной казни.
Его старшего брата, художника В.И.Якоби, я знал еще с моих студенческих годов в Казани; умирать приехал он также на Ривьеру, где и скончался в Ницце в тот год, когда я туда наезжал.
Его брата, врача, звали Павел Иванович. Первая наша встреча случилась в Париже в конце 60-х годов в Латинском квартале у моего ближайшего собрата В.Чуйко, жившего тогда в Париже корреспондентом русских газет.
Я нашел этого, мне совсем незнакомого компатриота в самый разгар его разносов, направленных на личность и на политическую роль Герцена. Это было еще, кажется, до переселения Герцена в Париж. Я уже слыхал, что у него вышли столкновения и сцены с новой русской эмиграцией. Не зная фактической подкладки всей этой истории (дело вертелось, главным образом, около возвращения какого-то капитала), я не мог принять участия в этом разговоре; но весь тон Якоби, его выходки против личности Герцена мне весьма не понравились. Не знаю, остался ли он и позднее в таких же чувствах к памяти Герцена, но его разносы дали мне тогда оселок того, как наши эмигранты способны были затевать и поддерживать бесконечные распри, дрязги, устную и печатную перебранку.
Прошли года. К концу 1889 года, когда я стал проводить в Ницце зимние сезоны, доктора Якоби там уже не было. Он не выдержал своего изгнания, хотя и жил всегда и там "на миру"; он стал хлопотать о своем возвращении в Россию. Его допустили в ее пределы, и он продолжал заниматься практикой, сделался земским врачом и кончил заведующим лечебницей для душевнобольных.
Тогда я с ним встречался в интеллигентных кружках Москвы. Скажу откровенно: он мне казался таким же неуравновешенным в своей психике; на кого-то и на что-то он сильнейшим образом нападал, – в этот раз уже не на Герцена, но с такими же приемами разноса и обличения. Говорили мне в Ницце, что виновницей его возвращения на родину была жена, русская барыня, которая стала нестерпимо тосковать по России, где ее муж и нашел себе дело по душе, но где он оставался все таким же вечным протестантом и обличителем.
XXIIВ Ницце годами водил я знакомство с А.Л.Эльсницем, уроженцем Москвы, тамошним студентом, который из-за какой-то истории во время волнений скрылся за границу, стал учиться медицине в Швейцарии и Франции, приобрел степень доктора и, уже женатый на русской и отцом семейства, устроился прочно в Ницце, где к нему перешла и практика доктора Якоби.
Вот тогда я с ним и познакомился, и знакомство это длилось до самой его смерти, случившейся в мое отсутствие.
Сын немца, преподавателя немецкого языка и литературы в московских учебных заведениях (а под старость романиста на немецком языке из русской жизни), А.Л. сделался вполне русским интеллигентом. И в своем языке, и в манерах, и в общем душевном складе он был им несомненно.
Специальное ученье и долгое житье в Швейцарии и Франции вовсе не офранцузили его, и в его доме каждый из нас чувствовал себя, как в русской семье. Все интересы, разговоры, толки, идеалы и упования были русские. Он не занимался уже "воинствующей" политикой, не играл "вожака", но оставался верен своим очень передовым принципам и симпатиям; сохранял дружеские отношения с разными революционными деятелями, в том числе и с обломками Парижской коммуны, вроде старика Франсе, бывшего в Коммуне как бы министром финансов; с ним я и познакомился у него в гостиной. Не думаю, чтобы его можно было считать правоверным марксистом, хотя в числе его ближайших знакомых водились и социал-демократы.
Сколько помню, он был близок с Плехановым, а дочь его дружила с одной из дочерей этого – и тогда уже очень известного – русского изгнанника, проживавшего еще в Швейцарии.
Как врач Эльсниц был скорее скептик, не очень верил в медицину и никогда не настаивал на каком-нибудь ему любезном способе лечения. Я его и прозвал: "наш скептический Эльсниц". И несмотря на это, практика его разрасталась, и он мог бы еще долго здравствовать, если б не предательская болезнь сердца; она свела его в преждевременную могилу. На родину он так и не попал.
В Ницце мы видались с ним часто; так же часто навещали мы М.М.Ковалевского на его вилле в Болье. С Ковалевским Эльсниц был всего ближе из русских. Его всегда можно было видеть и на тех обедах, какие происходили в русском пансионе, где в разные годы бывали неизменно, кроме Ковалевского, доктор Белоголовый с женой, профессор Коротнев, Юралов (вице-консул в Ментоне), Чехов, Потапенко и много других русских, наезжавших в Ниццу.
Старший сын Эльсница занял его место и как врач приобрел скоро большую популярность. Он пошел на французский фронт (как французский гражданин) в качестве полкового врача; а младший сын, как французский же рядовой, попал в плен; дочь вышла замуж за французского дипломата.
XXIIIВ некотором смысле можно было бы отнести к эмиграции и таких двух русских, как покойные М.М.Ковалевский и Г.Н.Вырубов.
Ковалевский прожил лучшие свои годы за границей на вилле, купленной им в Болье в конце 80-х годов. Может быть, иной считал его также изгнанником или настоящим эмигрантом. Но это неверно. Он не переставал быть легальным русским обывателем, который по доброй воле (после его удаления из состава профессоров Московского университета) предпочел жить за границей в прекрасном климате и работать там на полной свободе. Для него как для ученого, автора целого ряда больших научных трудов, это было в высшей степени благоприятно. Но нигде за границей он не отдавался никакой пропаганде революционера или вообще политического агитатора: это стояло бы в слишком резком противоречии со всем складом его личности.
О нем я пишу особенно в воспоминаниях, которые я озаглавил: "Жизнерадостный Максим". Наша долгая умственная и общественная близость позволяла мне говорить о нем в дружеском тоне, выставляя как его коренную душевную черту его "жизнерадостность".
Другой покойник в гораздо большей степени мог бы считаться если не изгнанником, то "русским иностранцем", так как он с молодых лет покинул отечество (куда наезжал не больше двух-трех раз), поселился в Париже, пустил там глубокие корни, там издавал философский журнал, там вел свои научные и писательские работы; там завязал обширные связи во всех сферах парижского общества, сделался видным деятелем в масонстве и умер в звании профессора College de France, где занимал кафедру истории наук.
Все это проделал по доброй воле, без малейшего давления внешних обстоятельств, мой долголетний приятель и единомышленник по философскому credo Г.Н.Вырубов, русский дворянин, помещик, дитя Москвы, сначала лицеист, а потом кандидат и магистрант Московского университета.
Очень редко бывает у нас, чтобы русский, не будучи беглецом, эмигрантом, нелегальным жителем, не имеющим гражданских прав в чужой стране (я таких в Париже не знавал ни одного на протяжении полувека), кто бы, как Вырубов, решив окончательно, что он как деятель принадлежит Франции, приобрел звание гражданина республики и сделал это даже с согласия русского правительства. Еще незадолго до того в турецкую войну он приезжал в Россию и заведовал санитарным отрядом на Кавказе, за что получил орден Владимира, а во Франции был, кажется, еще раньше награжден крестом Почетного легиона.



