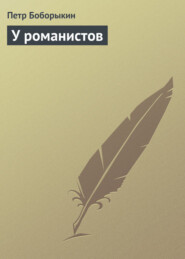 Полная версия
Полная версияУ романистов
Но все это вместе составляет от двенадцати до четырнадцати дней, то есть полмесяца. Стало быть, он может посвящать роману только две недели. Но, кроме того, Золя хочет составить себе имя и как драматический писатель. В течение года он непременно напишет одну пьесу, а то так и две. И теперь, тотчас после неуспеха своей комедии в театре «Пале-Рояль», он опять что-то пишет для сцены. Года два тому назад он вел совершенно замкнутую жизнь. Теперь чаще бывает в театрах, по обязанности критика, а зимою начинает ездить и в свет; но все-таки две трети его времени уходит на труд. До обеда он почти безвыходно дома. Жить иначе не может ни один парижский писатель, как это я говорил в начале своих очерков.
Любовь к нему русской публики хорошо известна Золя; он это очень ценит и в первый же мой визит показал мне письмо какой-то особы из Москвы. Он мне его не читал вслух, но сообщил только, что оно чрезвычайно восторженно и что автор этого письма, по всей вероятности, принадлежит к женщинам самого передового образа мыслей. Он попросил меня разобрать в конце письма адрес, написанный также по-французски. Я не мог воздержаться от улыбки, видя, как наивный автор послания перевел французским жаргоном следующий адрес: «Неглинный бульвар, меблированные комнаты купца Ечкина».
Золя, по его словам, постоянно получает предложения от русских редакций и охотно идет на всякую комбинацию по части переводов его романов. С русским гонораром он хорошо знаком и первый сообщил мне заинтересованным голосом, что его приятель Доде получает от петербургской газеты, где появляются его фельетоны, такую-то плату за строчку.
Когда во второй мой визит я уходил и прощался с ним в передней, Золя сказал мне, что через несколько дней перебирается в свой деревенский домик.
– А вы уже сделались собственником? – спросил я шутя.
– Какая собственность! Так, конурка для кроликов. Вы подумайте, – прибавил он с характерным качанием головы, – я теперь только вздохнул. Я целых десять лет ел хлеб!
По-французски «есть хлеб» значит вовсе не то, что у нас. По-нашему это – быть обеспеченным и даже благоденствовать; а француз употребляет это в смысле жизни, если не впроголодь, то очень великопостной, на одном хлебе.
Не совсем выгодное впечатление, которое произвел на одного из моих петербургских собратов Золя, может повториться. Я наперед предупреждаю поклонников его таланта не настраивать своего воображения на очень высокий диапазон. Золя, насколько я пригляделся к нему, – личность совсем не поэтическая. Это рабочий, сознающий свои силы, даже самоуверенный, но не заносчивый, высчитывающий свои выгоды, но в то же время преданный идее искусства. От него нельзя ожидать чего-нибудь особенно тонкого в беседе. Говорит он дельно, с множеством житейских и бытовых штрихов; это разговор очень умного, даровитого, бывалого и сильного человека, прошедшего через нужду и черную работу. Не только в романах, но даже в статьях своих он гораздо блистательнее, новее и глубже. Человек, искренно к нему расположенный и притом чрезвычайно образованный (мне не нужно называть его), уверял меня, что Золя знает очень мало. В доказательство он приводит спор, бывший при нем между Золя и Флобером, которого Золя признает своим учителем. Флобер по поводу одного из писем Золя В. Гюго сказал ему, что критический взгляд на драмы Гюго и его романы, какой Золя выразил так откровенно и смело, уже не новость, что то же почти говорил когда-то Гюстав Планш.
– А кто такой Гюстав Планш? – спросил вдруг Золя.
Как бы то ни было, при всех своих недочетах по образованию и по натуре, Золя типичнейшая личность, именно в теперешнюю эпоху. Хотя он к политическим вопросам относится и не страстно, но сквозь его буржуазную оболочку вы видите не дилетанта, а рабочего. Он дойдет до тех пределов творчества, которые поставил себе; в нем вы чувствуете глубокую веру, какую парижский рабочий имеет в положительное знание, в успехи цивилизации, в трезвый и прочный поступательный ход человечества, и если бы он впоследствии, даже в очень скором времени, сделался еще самоувереннее, вдался бы в культ успеха, комфорта, денежного положения, вряд ли это повлияет на основной тон его творческой работы. Он останется верным сыном своей эпохи, понимая это в здравом, прогрессивном смысле. Таков по крайней мере вывод из всего, что я вижу в нем как романисте и критике. Личное знакомство, к счастию, не повлияло на меня в дурную сторону, потому именно, что Золя чересчур характерен, не только как французский, но и как парижский тип.
VI
Переход от Эмиля Золя к Альфонсу Доде очень естествен в уме каждого читателя, кто интересуется реальным французским романом. Но между ними такая же характерная разница, как и между их произведениями. На А. Доде масса публики и во Франции и у нас накинулись едва ли не больше, чем на Золя, благодаря огромному успеху его романа «Formont jeune et Risler aine» («Формон-младший и Рислер-старший» (фр.)). Но размер их дарований – совсем не один и тот же. Когда мне случалось беседовать с публикой об А. Доде, я уже и тогда никак не мог поставить его на одну доску с его приятелем и сверстником. Сам Золя, увлекаясь сочувствием к реальному направлению, в силу своей южной натуры очень и очень способен к преувеличению размеров дарования, когда дело идет об его единомышленниках. Доде он особенно любит. Это – исключительная слабость, и я ее вполне понимаю: у Доде талант легче, но гораздо блестящее, или, лучше сказать, игривее и поэтичнее. Недаром он начинал как стихотворец и написал немало премилых поэтических вещиц, прежде чем обратился к сцене, к драмам и комедиям, а под конец к роману. Золя, как несколько грубоватый и тяжелый работник, с его буржуазной оболочкой, должен чувствовать, по закону противоположностей, тяготение к этому игривому, щеголеватому романисту, сумевшему соединить игру фантазии, а иногда и чисто фантастический колорит, с трезвой наблюдательностью и с здравым чувством современной жизни. Если русский читатель поверит на слово Золя, он должен будет поставить А. Доде на самый высокий пьедестал из всей группы даровитых романистов реальной школы. Но этого, в сущности, нет. Доде гораздо жиже Золя и даже Гонкуров, – и обоих братьев, и Э. Гонкура, взятого отдельно.
То, что рассказал недавно Золя русским читателям о творческой работе Доде, должно быть, безусловно верно. Такой человек прикован к ежедневной действительности. Он должен описывать и срисовывать. В этом его сила, оригинальность и привлекательность. Комбинировать, творить в классическом смысле этого слова, он менее способен, а то так и вовсе не способен, иначе как в ущерб таланту и достоинству романа. Его авторство может свободно и хорошо обращаться только в поэтических отступлениях фантазии, как это мы видим в его первом романе. У нас любят упрекать новейших русских беллетристов в том, что они только фотографируют, а не создают. Но есть фотографии и фотографии. У А. Доде снимки с действительности равняются очень часто самому строгому творчеству. И я лично совершенно согласен с Золя: чем ближе Доде будет держаться своих прямых, житейских наблюдений, тем он лучше будет писать и тем ценнее для характеристики эпохи будут его романы. Сколько о нем известно, жизнь его в Париже дает ему возможность гораздо разностороннее обработывать современные сюжеты. Он теперь и сам в фельетонах русской газеты рассказывает свои дебюты, испытания, порывы с приезда в Париж бедным, безвестным юношей, такого же южного происхождения, как и Золя. Но ему удалось если не сразу пробиться к большому успеху, то по крайней мере познакомиться со всевозможными сферами парижской жизни, попасть секретарем к герцогу Морни, выезжать в свет, ставить много пьес, знакомиться с самым разнохарактерным людом парижского литературного, делового и придворного мира.
С Доде я не сталкивался прежде, то есть в 60-х годах. Из России я также с ним не переписывался. О моем желании посетить его он был предупрежден Золя. Живет он в очень характерном квартале Парижа, на пак называемом Болоте. Это был когда-то модный квартал Парижа в начале и на протяжении XVII века. От этой эпохи сохранилась четырехугольная площадь, вся обставленная домами с архитектурой Возрождения и с конной статуей короля Людовика XIII посредине небольшого сквера. Таких площадей всего одна и есть в Париже. Дома – кирпичные с крытыми тротуарами, вроде того, как у нас строились дома с лавками. На площади всегда тишина. В сквере играют до обеда дети; кое-когда проедет омнибус вдоль одного ряда домов. Вот этот-то ряд, принадлежащий, собственно, к площади, и называется rue de Vosges. Во втором или третьем доме от выхода на площадь от С.-Антуанского предместья и живет Доде, под N 18. Во многих из этих домов расположение до сих пор прежнее: небольшой дворик, часто с садиком. Квартиры помещаются, кроме главного фасада, и в отдельных павильонах. Я прошел под ворота и, окликнувши привратницу, узнал, что Доде живет налево, через двор. И входные двери, и разные другие подробности постройки – все это отзывается почтенной стариной. Даже странно было видеть, что такой новейший, блестящий писатель живет среди архитектурной обстановки времен кардинала Ришелье.
Меня попросили войти из узеньких сеней налево в какую-то странную комнату: она похожа была не то на подвал, не то на чулан, почти без мебели, с голыми стенами; только на одной развешано было оружие: рапиры, перчатки и нагрудники для фехтования. Вероятно, это была фехтовальная зала. Не помню даже, стояло ли там что-нибудь вроде дивана или двух, трех кресел. Но и это странное помещение было оригинально, хотя я никак не воображал, что проникать к автору «Набоба» нужно было через подобную приемную. Далее я и не проник. Я видал, что наверх ведет довольно крутая лестница. Наверх меня не пригласили, а через минуту сошел ко мне сам хозяин и тотчас начал извиняться, что не может меня принять к себе, так как его жена в эту самую ночь произвела на свет сына, кажется, по счету его, второго ребенка.
Портрет Доде я уже видел, опять все в той же коллекции современных знаменитостей, изданной недавно в Париже. На фотографии он снят в профиль или в три четверти и поражает своим благообразием. Глядя на эту фотографию, думаешь, что он крупного роста. Его типичному южному лицу придана тонкость, вероятно, с помощью небольшой ретушевки. Он смотрел на ней не писателем, а каким-то итальянским тенором. В натуре Доде – очень маленький человек, вряд ли больше четырех вершков росту; ему должно быть под сорок лет, но он моложав и даже совсем не утомлен, хотя и рассказывают, что, кроме работы, усиленной и спешной, он не отказывает себе ни в каких удовольствиях… Одет он дома не так, как большинство беллетристов: не в вязаной фуфайке или фланелевой курточке, а просто в старой и довольно даже засаленной визитке. Остальные части туалета были такие же. Женщина, влюбленная в него, наверно бы, стала ему замечать, что с его изящной, можно сказать, живописной физиономией грех так небрежно относиться к своему туалету даже дома. В обществе я его не встречал, потому не знаю, франтоват он или нет, но дома он смотрит – по туалету – очень ненарядно. Так одеваются наборщики в типографиях. У французов, скажу мимоходом, не редкость некоторая нечистоплотность, особенно если они южного происхождения.
Но это только маленькая, ничтожная подробность. Вы сразу же оставите в покое затасканную визитку и жилет Доде и будете смотреть с удовольствием на его лицо, сожалея в то же время, что он так мал. Голова у него большая, которую бы природе следовало приставить к стройному и высокому телу. Между литераторами различных стран я положительно не встречал такой наружности, и Доде до сих пор смахивает на какого-нибудь итальянского «tenor di grazia». Ворчливый русский краснобай сказал бы, что с такими лицами попадаются шарманщики на улицах русских городов. Волосы он продолжает носить довольно длинные, занимается ими мало и вообще не производит ни малейшего впечатления фатовства. Что вы ни возьмете в его лице: глаза, нос, овал, самый колорит тела – все это такое живописное, милое и несколько, как бы это выразиться, не то что простоватое – напротив – но далеко не барское. Этак красивы бывают действительно люди из народа на юге Европы, в особенности в Италии.
Говорит он приятным акцентом без всяких резких южных особенностей, несколько как бы певуче и без парижской картавости; при этом он очень молод; по звуку голос даже поразительно молод. Слушая его, вам сдается, что с вами беседует юноша, художник, скрипач, певец, а уж никак не реальный писатель, прошедший чрез очень разнообразные жизненные испытания. Чувствуете вы также, глядя на Доде и слушая, как он говорит, что женщины должны были играть в его жизни выдающуюся роль. Он уже несколько лет женат и, как читатель видит, отец семейства, но таким людям на роду написано быть всегда первым тенором и обладать от природы культом женской красоты…
Доде накануне назначил мне час для визита в очень милой и простой записке. И вот это-то ожидание моего прихода подало повод к очень забавному qui pro quo (недоразумению (лит.)), который как нельзя больше характеризует его теперешнее положение как романиста.
Он сначала извинился, что принимает меня в такой «дыре», и прибавил, что он всю ночь не спал, потому что роды его жены были довольно трудные.
– Представьте себе, что со мной сейчас случилось, – весело продолжал он. – Я поджидал вас; служанка докладывает мне, что какой-то господин желает меня видеть. Я должен был просить его, как и вас, вот сюда. Схожу и вижу мужчину ваших же лет и сейчас говорю ему, что я очень рад с ним познакомиться, что мой собрат и друг Эмиль Золя много мне о нем говорил, и притом называю по фамилии, то есть господином Боборыкиным. Но гость состроил удивленную физиономию и возразил мне, что он совсем не Боборыкин и не понимает, почему я ему все это говорю, что господина Золя он не знает и никогда не встречал, а что он маркиз такой-то и пришел объясниться со мною, как с автором романа «Набоб».
Как только это мне сказал Доде, я сейчас же припомнил письмо Золя, где говорится о неприятностях, какие он навлек на себя из-за нескромностей романа.
– Этот маркиз, – продолжал Доде, – вломился в обиду за то, что я позволил себе назвать его настоящей фамилией одно из действующих лиц в «Набобе». Лицо это, действительно, довольно-таки пошлое. Почему это я сделал? Вот почему: настоящий оригинал, списанный мною, прозывался не так, а вроде того. Это созвучие и повело меня к сочинению фамилии, которая оказалась существующей. А маркиза, явившегося ко мне, я отроду и не встречал!..
– Как же объяснились вы? – спросил я.
– Маркиз был чрезвычайно раздражен и даже задорен и, кажется, не совсем удовлетворился фактической стороной дела. Но что прикажете делать? Я вот уже слишком год – жертва таких же столкновений; получал даже вызовы, а о письмах и говорить нечего. Я всем и каждому говорю одно и то же: романист, списывающий с реальной жизни, неминуемо должен впадать в нескромности. Личных и тем менее неблаговидных побуждений у меня никогда не было; но, помимо этого, я должен стоять за полнейшую свободу изображения.
– Пожалуй, и тут будет вызов? – осведомился я. – Кто его знает? Это меня ужасно раздражало вначале, а теперь я уже смотрю на все это с комической точки.
Этот кусок разговора показывает, что Доде нисколько не скрывает своей фотографической работы. Он берет живое лицо и списывает его, когда ему нужно, и всякий романист, если только он не рутинер и не повторяет прибауток классиков, должен сознаться, что такая свобода литературной работы безусловно необходима. Если смущаться слухами, сплетнями, претензиями частных лиц, нельзя ступить шагу в беллетристике. Исповеди романистов и драматургов были бы переполнены, если бы их появлялось побольше, признанием того факта, что без живых лиц, даже со всеми их особенностями, творческая работа немыслима. В нашей литературе есть образцовое, гениальное произведение, которое все состоит из таких личностей – это «Горе от ума». За исключением Чацкого (да и то только отчасти), все остальные лица – портреты, поднятые до значения типов только в силу огромного таланта Грибоедова. Но Москва 20-х годов знала этих людей. Да и Грибоедов нисколько не церемонился подписывать под вымышленными именами имена своих знакомых. Всем грамотным русским людям известен подлинный анекдот, как Грибоедов, читая вслух свою комедию, кивал на того москвича, который послужил ему оригиналом для одного из приятелей Репетилова:
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, —И крепко на руку нечист!Это было, конечно, посильнее, чем по случайному совпадению назвать действительно существующим именем личность пошляка, которая взята из реальной жизни. Претензия маркиза, явившегося к Доде, смешна донельзя. Она объясняется той закоснелостью дворянских взглядов, какая царствует до сих пор в лагере французских легитимистов. Мало ли сколько, например, в России в романах, комедиях и очерках встречается настоящих дворянских фамилий, вписанных даже в VI книгу, и, наверно, никто из родичей этих фамилий не являлся к писателям с требованием отчета и даже не писал им писем на эту тему. А то, что критики старого пошиба называли «воссозданием», – просто выдохшееся общее место, и ни один писатель, честно и просто относящийся к своему делу, не станет скрывать того, что он в непосредственном наблюдении действительности черпает весь материал своего творчества, что без отдельных лиц не может быть в мозгу писателя конкретных образов.
Так точно всегда писал и до сих пор пишет наш соотечественник И. С. Тургенев. Несколько раз слышал я это от него. Все его типы, сделавшиеся классическими – живые лица, а вовсе не создания его воображения, живые до такой степени, что они даже не представляют собой сочетания свойств разных лиц, а относятся прямо к одному лицу, наблюденному автором. Так точно созданы и Рудин, и Базаров, и все выдающиеся личности романа «Новь». Из французских драматургов, не говоря уже о Сарду, у которого слишком много эскизной работы, Дюма-сын не раз заявлял в печати, что у него нет ни одного выдуманного сюжета, что он положительно не привык писать какую бы ни было пьесу, если она не основана на действительном происшествии. Читатель извинит меня за это отступление. Мне кажется, оно было не лишним у нас, в нашем журнализме, где часто беллетристу приходится выслушивать массу бесплодных, пустых и придирчивых заметок и требований.
Почти водевильное qui pro quo, случившееся с Доде, сразу придало нашей беседе веселый, бесцеремонный характер; да с таким человеком и вообще очень нетрудно говорить с самого первого знакомства. Он вас не оттолкнет никакой претензией и никакой тяжестью. Иному может показаться, что он чересчур легковесен. Истина элементарная, что характер умственных занятий, в особенности начитанность, непременно отражается на тоне разговора, или, лучше сказать, на его строе и уровне. Этот уровень у Доде показывает, что он почти исключительно жил интересами художественными, и притом в воздухе парижского журнализма, парижских театров и салонов. Но ведь он и не берет на себя разрешения глубоких общественных и философских вопросов. Теперь он напал на настоящий свой путь – путь романиста. Правда, Доде, как и Золя, состоит театральным критиком. Но театральная критика в Париже ведется почти всеми на один и тот же лад. Для нее считается достаточным: практическое знание театрального мира, вкус, а главное хорошее перо, бойкость и образность языка. Даже без той характеристики, которую Золя посвятил своему приятелю, нетрудно было бы догадаться, что для Доде политические и социальные вопросы стояли всегда на втором плане. Не будь этого, мне кажется, молодой человек с восприимчивой головой и натурой не пошел бы, даже под давлением нужды, в домашние секретари к главному участнику государственного переворота 2-го декабря. Я это говорю вовсе не за тем, чтобы лишний раз попрекнуть своего французского собрата. С тех пор он значительно исправился и в либеральном направлении.
– Мой новый роман, – сообщил он мне, когда мы разговорились, – задуман на очень смелую тему. Он будет радикальнее всего, что я писал. Когда я его кончу, не знаю, но мне хочется поскорее заняться им вплотную.
Перед тем он мне сообщил также, что тот московский журнал, где помещали перевод его «Набоба», обратился к нему с предложением: доставить ему рукопись нового романа раньше появления его в Париже за особый гонорар.
– А вы знаете, какого направления этот журнал? – спросил я.
– Нет, – наивно ответил мне Доде, – я не имею об этом настоящего понятия.
Хотя мне и не хотелось вмешиваться в чужие дела, но я счел своим долгом предупредить Доде, что он может впасть в новое qui pro quo и гораздо более серьезного характера, чем то, которое случилось полчаса назад.
– Если ваш роман радикальный, – сказал я, – то ему, конечно, не место в этом московском журнале. Редакция, давая вам предложение, вероятно, спекулировала на вашу теперешнюю популярность, не ожидая, что содержание романа будет противно ее духу. Только берегитесь: редакция эта отличается своеобразными нравами. Она не церемонится, выкидывает целые главы у русских знаменитостей. Можете сообразить, что случится с вами, если роман ваш действительно очень смелый и радикальный?
Это показывает, до какой степени до сих пор между французским и русским писательским миром мало самого элементарного знакомства. Прибаутки о невежественности французов насчет России всем надоели, но пора бы парижским писателям, даже из чувства самосохранения, знать по крайней мере клички русских журналов и газет, чтобы не давать повод публике считать их солидарными с людьми антипатичного им лагеря.
Доде собирался также выехать из Парижа. Заседания Литературного конгресса и другие дела не позволили мне еще раз зайти к нему. Весь его прием был такой милый и товарищеский, что я искренно сожалел, уезжая несколько поспешно из Парижа, что не привелось еще раз видеть его и побеседовать с ним. Он чрезвычайно цельная личность при всей своей парижской легкости. Вы находите, что романы его и он сам – произведения одной эпохи и одной действительности. Вы от него гораздо менее требуете, нежели от людей вроде Золя, и вполне понимаете, почему для массы читателей – и французских и наших – он приятнее, занимательнее и ближе. Но его поэтический вкус и блеск не стоят и одной трети тяжеловесных, но зато и могучих писательских свойств автора «Ругонов».
VII
Русскому, рассказывающему публике про парижских романистов, просто совестно было бы, в виде заключительной ноты, не сообщить хотя чего-нибудь о том, как поживает в столице Франции наш симпатичный и маститый романист И. С. Тургенев. Личная судьба Тургенева, несмотря на его огромную популярность, очень мало известна соотечественникам. Но они знают, по крайней мере грамотные, что Тургенев, по доброй воле и по каким-то житейским обстоятельствам, сделался как бы особого рода эмигрантом. Вот уже, если не ошибаюсь, больше 15 лет, как он живет не в России, а за границею, и домой наезжает только изредка – на один, на два месяца, и то больше летом. Вопрос влияния такой жизни на его романы – огромной важности и для критика, и для всей русской публики. Естественно, я не буду разработывать его здесь. Скажу лишь, что меня лично эта странная судьба русского бытописателя с такой тонкой, художественной натурой чрезвычайно сильно и занимала и задевала. Никто не скажет, что я шовинист. Еще менее разделяю я замашки тех, кто не церемонится требовать от частных людей непременно такого, а не иного образа жизни. Вероятно, если бы в России жилось получше, то людям, европейски образованным, привыкшим к обществу с истинно культурными нравами, жилось бы у нас легче. Они не обрекали бы себя так часто на добровольное изгнанничество. Как ни рассуждай, а приходится прийти именно к этому главному мотиву.
Вот уже около восьми лет, как Тургенев перебрался из Баден-Бадена, где он продал свою виллу, в Париж. Живет он все там же, где и поселился первоначально, по соседству с Золя, в улице, имеющей почти такую же внешность, такую же тихую и порядочную, в rue de Douai. Вы подходите к воротам с решеткой. Перед вами двор; налево, весь крытый стеклом, подъезд отеля. Направо павильон привратницы. Двор небольшой, прекрасно вымощенный. Видны и деревья садика. Когда вы спросите у привратницы:
– Monsieur Tourguenieff?
Раздастся непременно два звонка сряду. Если он дома, то сейчас же появится на крыльце с стеклянным навесом человек и проводит вас в верхний этаж. Витая лестница открывается с нижней площадки или передней и соединяет между собою все этажи; так что, в сущности, это одно помещение. Дом принадлежит семейству Виардо. По утрам раздаются всегда громкие звуки вокальных упражнений. Какой-нибудь сопрано или контральто выделывает сольфеджи. На каждой площадке вы находите вешалку. Верхний этаж состоит из комнат очень маленьких размеров, по крайней мере для нас, русских. Квартира похожа на помещение в парижских меблированных комнатах: такие же переходцы, крошечные коридорчики, такие же двери, камины, такая же мебель.

