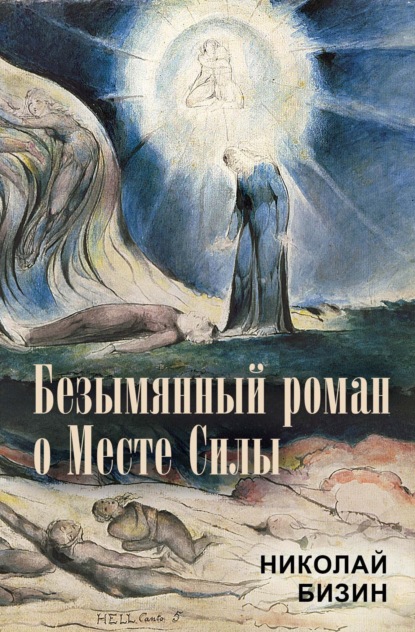
Полная версия:
Безымянный роман о Месте Силы
– Зря вы так поспешны в суждениях, – сказал мне барон де Рэ, пэр Франции. – Есть версия, что вся эта история с чернокнижием и воскресением тени есть не более чем интрига с целью отнять у меня мои богатство и титулы; амбициозные родственники постарались.
– Но вы же признались.
– А пытки? И магистр ордена тамплиеров признавался в поклонении Бафомету и в массовой содомии братии, а потом с костра проклял Филиппа Красивого.
– Хорошо. Оставим ваше вероятное малодушие.
Пэр Франции снисходительно взглянул.
В жёлтом луче уличного фонаря это выглядело почти глумливо – как выражение лица некоего Коровьева-фагота (который, как известно, был-таки демон): вопросы малодушия и многодушия средневекового француза не занимали!
В Мире Искусств – важна поверхность, пять или шесть телесных осязаний, овеществление собственной невежественной гордыни.
Пэр Франции снисходительно отмахнулся.
– Я не демон и не тень, – сказал бывший герой. – Вы можете прикоснуться ко мне рукой. Я бы и следы от пыток показал, но мне нет в них нужды, и тело вполне исцелилось.
Пэр Франции предложил мне выступить в роли апостола Фомы.
Но сам он воскресшим Христом явно не был.
– Так зачем вы явились? – без обиняков спросил я.
Он не замедлил подтвердить мою догадку.
– А эти ваши раз-мышления о репрессиях: они меня и призвали, и в этом облике сформулировали. Хочу (вместе с вами) рас-судить и перейти к два-и-три-мышлению: сжигали мою Деву, или это всё ловкая мистификация.
Я почувствовал некое со-мнение.
Как оказалось, это мнение могло действительно оказаться совместным.
– А вам ведь интересно, столь ли правдивы ваши мифы о вашей непобедимости, – сказал барон и маршал. – Так что нам (в некотором роде) по пути.
– Чьей непобедимости?
– Не вашей лично, конечно! Всего Русского мира. Если ваш мир непобедим, нет никакой страшной сказки о так называемых сталинских репрессиях.
Я (не) удивился и (не) заподозрил пэра Франции в подслушивании (моих мыслей). Если нет никакой страшной сказки о репрессиях, то что же тогда есть? Неужели страшная реальность?
Или (всё-таки) – сказочная.
Разумеется, таковы были мои раз-мышления (до два-и-три мышлений мне было ещё далеко).
Разумеется, Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де Рэ, граф де Бриенн действительно (не) подслушивал мои рас-суждения: все эти банальности – не переросшие в два-и-три и так далее буквальности (Тысяча и одна ночь); они были очень-(и оче) – видны.
Более того, у меня даже не оказалось причин осуждать его за это (барон при этой мысли сморщил аристократический нос).
– Вот (у)видите: страшно или сказочно – это всё в процессе и реалиях момента. А так же в сопутствующих факторах среды (которой до Среды Воскресения ещё далеко).
Барон почти слово в слово перечислял мои доводы (которых я не привёл в той беседе о репрессиях).
– Вот (у)видите: палачи и жертвы – это всё ещё люди! – повторил он. – Исходя из падшести человеческой природы: «Раб лукавый и прелюбодейный чуда ищет, и не дастся ему.» (одно из Евангелий, по памяти)
Меня начало настораживать его «(у)видите».
– Тогда о каких репрессиях может идти речь? – въедливо уточнил я.
– О справедливых. Сказка о справедливых репрессиях. В которой (к примеру) бандеровцев не выпустят на свободу в пятидесятые годы вашего века. В которых, к примеру, весьма вероятного сексота Солженицына (без ведома «кума» не стать библиотекарем в лагере) не сочтут совестью нации.
Здесь я окончательно перестал удивляться (если вообще мог удивиться сказке), что средневековый француз в курсе нашей недавней истории.
Впрочем, барон де Рэ и сам мне «себя» разъяснил:
– Я есть явление в ноосфере, архетипических персонаж сказки, отражающих некую метафизику развития личности. Многие, столкнувшись со святостью (мифической или настоящей), проходят мою дорогу: с одного круга ада на другой круг.
– И остаются в аду?
– Да. Но так или иначе от него пробуют отдалиться. Если я и в аду, то пробую пробить небо этого ада.
– И выйти в следующий, якобы более высокий ад, – усмехнулся я.
Это как со «сталинскими» репрессиями: как и все зачистки т. н. «врагов народа» (личностей, чьи парадигмы гибельны для народа и государства), все эти «пробои неба ада» – неряшливы и сопровождаются поговорками «лес рубят, щепки летят»; понятно, что «кровавым костям в колесе» – совсем не до шуток.
Сначала (не начинайте с начала, иначе начала качнутся) – чувствуешь оторопь.
Зато потом – когда начинаешь в той реальности «жить» (всем бессмертием своего долга перед своей душой) и понимаешь: эта сталинская реальность – ничем не хуже (а иногда и много выше) твоей.
– Так что, из ада не вырваться? – спросил я провокационно.
– Не глупите. Что создать мог Господь, кроме рая? – ответил мне средневековый француз цитатой из борхесовской Розы Парацельса.
И я понял: начинались приключения моей страшной сказки.
Ибо и сама сказка начинала примерять (на всех нас) не только обличия (наименования) происходящего, а ещё и выстраивать мне лествицу восхождения (или падения) по ступеням невидимым и бесплотным.
Так вот, об этих (туда-сюда) ступенях.
А далее (туда-сюда, в прошлое из настоящего и обратно) – было просто.
Я вспомнил подробности о моём новом знакомце. «В 11 лет он осиротел, оставшись на попечении деда, в 16 лет – женился на своей кузине, Катрин де Туар, которая стала единственной женой Жиля де Рэ и надолго пережила своего мужа. Катрин была родственницей дофина (наследника французского престола) Карла (будущий король Франции Карл VII). Если верить семейным преданиям и некоторым историческим хроникам, чтобы заполучить для внука столь престижную невесту, дед Жиля просто выкрал ее у родных.
Правда сам дофин в это время находился в самом отчаянном положении и даже сомневался в законности своих прав на французский престол. У него не было ни настоящей власти, ни денег, ни авторитета. Его малочисленные и плохо организованные войска с трудом контролировали лишь города, расположенные в долине Луары. Небольшой двор Карла в Шиноне жил по принципу «после нас хоть потоп», деньги, получаемые от ростовщиков (а порой – и от грабежа проезжающих мимо караванов) тратились на всевозможные придворные развлечения – турниры, балы, пиры, у некоторых историков звучит также слово «оргии». Богатый молодой повеса Жиль де Рэ, который постоянно одалживал деньги и придворным, и самому дофину, был встречен там с радостью.
А между тем вяло продолжалась война с Англией (позже названная Столетней) – крайне неудачная для Франции. И с 1427 года Жиль де Рэ принимал участие в военных действиях против англичан. Особых успехов он тогда не добился, но приобрел боевой опыт. Военная ситуация была на грани катастрофы. Уже овладевшие Парижем англичане, неуклонно и неумолимо продвигались к Шинону. Незадачливый дофин всерьез подумывал о том, чтобы, оставить свою страну на произвол судьбы и укрыться в южных провинциях, но именно в этот момент ко двору Карла прибыла Жанна д’Арк.
Орлеанская Дева произвела на Жиля де Рэ поистине потрясающее впечатление: на его глазах произошло настоящее чудо – пришедшая неведомо откуда пастушка вдруг привела в чувство трусливого дофина.
Судьба Жиля была решена: один из самых знатных баронов Франции безропотно подчинился безродной деревенской девушке, став ее телохранителем и полководцем. Несмотря на достаточно сомнительную репутацию, к тому времени прочно закрепившуюся за Жилем, Жанна д'Арк полностью доверяла ему. Рядом с Жанной д'Арк, избалованный и распущенный Жиль де Рэ неожиданно стал героем: он следовал за ней по пятам, сражался рядом в битвах – во всех, кроме последней. Заслуги его были настолько велики и очевидны, что в 25-летнем возрасте он не только получил звание маршала Франции, но и исключительное право носить королевский знак Лилии.»
– Да вы, милейший, многое обо мне знаете, – усмехнулся тонкогубый пэр Франции.
– Я не знаю чуда, которое произошло с вами, – сказал я. – И как случилось, что вы (как и наши репрессированные «старые большевики», ставшие бесчестными рантье своих «прошлых заслуг»), сумели это чудо разменять на магию; согласитесь, пробовать воскресить пепел – чушь.
Я не сказал: особенно(!) – если никакого пепла и не было.
Но маршал и пэр Франции меня услышал.
Он стоял передо мной, такой весь из себя чернокнижник, и смотрел откровенно сверху вниз. И не только потому, что роста я весьма среднего: пэр Франции уповал на свою голубую кровь.
– Кровь не спасает от пыток, – напомнил я.
Я ведь уже указывал, что мой со-беседник встретил меня при выходе из здания на Звенигородском проспекте Санкт-Ленинграда.
И действительно, это следовало услышать самому: звон колоколов, сорокоуст над святым городом имени Ленина, колыбелью трех кровавых революций (все эти лукавые мысли о переходе от подвижничества к магии далеко могут завести – а ведь нам их ещё и на поверхность извлекать).
Напоминаю: сорокоуст может быть и во здравие, и во упокой.
Я сделал движение рукой, чуть указывая. Француз кивнул, повернулся к арке и подождал меня.
Я настиг его (словно уровнялся взаимопониманием происходящего); мы прошли арку (там есть железные воротца, в них калиточка) и вышли на улицу… Я поначалу (симво-лично: личность как символ) указывал направление.
А там мы бы ещё и влились в поток (симво-без-лично: таков путь многих) пошли к метро.
Я намеренно вёл Жиля де Рэ к подземному спуску в рукотворный «предбанник» преисподней; зачем?
А чтобы француз и католик осознал разницу между тем внутренним своим внутренним преображением в присутствии Жанны и внешними удобствами туннеля сквозь санкт-ленинградское болото.
Через оный туннель (своей преисподней) – каждый хотел «доехать» (жаргонизм: от въехать в вопрос) до какой-нибудь цели.
Например, к такой – когда качнутся начала (всего или ничего):
– Но если Деву не сожгли… – сказал мой со-беседник.
– А что было бы, если бы мы не распяли Христа? – сказал я. – Что было бы с его (якобы) Воскресением, которое стало бы «отсрочено» – до смерти от человеческой старости?
Я промолчал о сошествии Христа в ад, где Он освободил ветхозаветных праведников. А ведь без этого «прошлого» факта не было бы никакого будущего у нашего «настоящего» настоящего.
Но Жиля де Рэ заинтересовал другой момент (вечности):
– Мы? – молча (якобы) удивился (якобы) чернокнижник. – Именно мы?
– Был бы человек, а распятие (и вина за него) найдётся, – молча добавил я, помятуя процедуру дознания.
Помятуя – зачем оно вообще (изначально) проводилось.
И (главное) – кто получил выгоду от самого процесса смены парадигм развития страны (и элит моей родины); кто неизбежно примазывался к любым репрессиям и получал прямую выгоду от (предположим) того, что написав донос: либо вселился в квартиру-замок-поместье оболганного (или действительно разоблачённого) человека или получил преференцию на социальной лестнице.
Причём просто из преувеличенной бдительности (хорошо, не со-знательно подлости).
– Кто получил выгоду от распятия Христа? Кто получил выгоду от сожжения Девы? Кто получил выгоду от моего сожжения? – удивился француз. – На последний вопрос у меня есть ответ. Мои родственники. Мои взаимодавцы. Даже король, которому я когда-то тоже одалживал деньги.
– Я не о вас, я об учителе черчения по фамилии Бенуа и о Мире Искусств (желанием искусственно поиграть версификациями несравненного, поторговать душой – к примеру, занимаясь магией).
Француз взглянул.
Француз опять возмог просчитать мою поверхностную память.
Для этого не требовалось магии: недавнее прошлое я только что сам изложил на бумаге. Поэтому не славянской фамилии он не удивился и вернулся к предыдущей теме:
– Вы полагаете, что Христа распяли все мы?
Я (меж тем) – уверенно вёл его к станции метро.
Я – не отвечал. Сам увидит.
– Я уже увидел, – сказал Жиль де Рэ.
– Даже то, что было бы, если бы Христа не распяли? – в моём голосе была закономерная ирония.
Барон закономерно промолчал.
Мы перешли на другую сторону улицы. Француз не удивлялся светофору и «самобеглым» экипажам: это всё была внешность ирреальности (происходящего). Мы оба следовали невидимым параллелям и меридианам вселенского глобуса.
Но не это представлялось (хлебом) насущным.
Камень в протянутую руку всегда наглядней.
– Кто получал выгоду от «чисток аппарата»? – мог бы риторически вопросить я.
Кроме самой страны, еще и нижестоящие сотрудники аппарата (и не всегда эти выгоды не совпадали).
– Кто вселился в мой замок? – мог бы не менее риторически воскликнуть пэр Франции.
Он умолчал, что замок у него отобрали за долги, которых барон наделал уже после своих подвигов подле Жанны. А я вспомнил весьма уважаемых мной пожилых людей, обсуждавших лишь поверхность истории с родственником Бенуа.
Причём – ведь и мы с Жилем де Рэ особо не углублялись.
Как и тогда, в новоделе.
– Я вам благодарен, – сказал я тем моим со-беседникам (перед расставанием). – В мою реальность вступила новая сказка. Я назвал это «вступление» страшной сказкой о репрессиях.
На что мне одним из собеседников было отвечено:
– Репрессии всегда страшны.
Я ответил банальностью:
– Каждому Бог даёт Крест по его силам. Следует только помнить: сегодня силы даются на сегодняшний Крест.
– Да-да, нас учили священники: пусть завтрашний сам думает о завтрашнем, довольно сегодняшнему дню своей заботы, – мог бы ответить мне мой тамошний (в новоделе) со-беседник.
Но – не ответил.
И я был с ним (с его не-до-сказанным) со-гласен: в реальности мы не думаем о настоящем (настоящее – очень тонкая материя), мы имеем дело и думаем о прошлом и будущем.
Говорить об оче-видном – пустое (если это не признание в любви).
Сейчас взамен этого прозвучало другое – уже из уст давно сгинувшего героя и злодея:
– А поскольку сил на настоящее будущее у нас нет, мы скатываемся в магию (пытаемся изнасиловать тонкие материи настоящего), – резонно сказал мне шедший со мной рядом сожжённый чернокнижник. – А что этим воспользовались мои родственники и кредиторы, чтобы меня обвинить – вполне закономерно: не одни, так другие.
– Так вы действительно занимались магией и приносили человеческие жертвы? – повторил я вопрос. – А ведь в современных «научных» кругах есть версия, что это поклёп.
– Как и о ваших «сталинских» репрессиях, – сказал мне пэр Франции.
Он опять (почти) не ответил на прямой вопрос.
Но мы уже подошли ко входу в метро и ко глотке ада (почти рукотворной).
Казалось бы, всё сказано.
Благие намерения – одно, их воплощение (связанное со множеством пересекающихся интересов) – другое; и всё же я посмотрел на сожжённого за чернокнижие пэра Франции.
Не важно, занимался ли он в реальности чернокнижием, важен результат: он не воскресил из пепла в Руане Деву; хотя и говорят – едва не успел спасти (и всё дело в этом «едва»); важно – около Девы он был подвижником и настоящим патриотом «милой Франции»; и ведь не он один!
Вся армия наёмников становилась героями.
– Это ваш (рукотворный) ад? – спросил меня Жиль де Рэ, указывая на вход в метро.
Интересно, как он угадал?
– Я не гадаю на кофейной гуще, – сказал Жиль де Рэ.
Интересно, никакого кофе в Европе в его время и в помине не было.
Ничего нового я не увидел: над комфортным входом (в рукотворное) цвела весьма большая и красного цвета неоновая буква М… Наверное, первая буква слова «мудрость» (мужество – другие варианты отвергнуты).
Наверное, нам следует обрести оное качество, прежде чем начинать вглядываться в бездну.
– Я отвёл взгляд от бездны, когда скакал в сражение рядом и под знаменем Девы, – сказал Жиль де Рэ.
– Вы хотите ещё раз повторить ваши показания Святейшему трибуналу?
– Меня судил самый обычный мирской суд, не Инквизиция. Но и его я повторять не хочу. Вы вот тоже не хотите ещё и ещё переживать ваши репрессии (и всё равно их внутренне проживаете), – сказал Жиль де Рэ. – Только так нам и удаётся вскрывать подноготную прошлого.
Очень многозначительная метафора.
И я принялся (привычно) – за подноготную; всё равно мы наши репрессии переживаем многократно – итак:
«Война с англичанами продолжалась, но разочаровавшийся в своем короле Жиль де Рэ оставил службу. Лишь в 1432 году он ненадолго вернулся к активной военной деятельности, оказав Карлу VII помощь в снятии осады Линьи. Жиль де Рэ поселился в замке Тиффож, где жил, в окружении многочисленной свиты, наслаждаясь славой и богатством. Его охрана в то время насчитывала 200 рыцарей, в его личной церкви служили 30 каноников.
Следует сказать, что, в отличие от большинства французских аристократов того времени, Жиль де Рэ получил неплохое образование. Он слыл знатоком искусств, разбирался в музыке, собрал большую библиотеку. Приезжавшие в его замок художники, поэты и ученые неизменно получали щедрые подарки. Большие средства были израсходованы на прославление Жанны д'Арк, которая в те времена совершенно официально считалась ведьмой (реабилитирована спасительница Франции будет лишь через 20 лет – в 1456 г.), в частности, была заказана и поставлена в театре грандиозная «Орлеанская мистерия». Но в финансовых вопросах Жиль проявил редкостную беспечность и уже через 8 лет столкнулся с нехваткой средств. Между тем, отказывать себе в чем бы то ни было, барон не привык, и потому пошел по традиционному и пагубному пути: стал закладывать свои замки и продавать земли. Но и в этих обстоятельствах Жиль де Рэ проявил определенную оригинальность, и, в попытке предотвратить разорение обратился к алхимии и магии. Помощник в этих сомнительных делах у него, разумеется, отыскался очень быстро: итальянский авантюрист Франческо Прелати, утверждавший, что имеет в услужении демона по имени Баррон, который способен направить их поиски по правильному пути. Родственники Жиля де Рэ негодовали, его жена уехала к родителям, а младший брат Рене добился раздела имущества. Карл VII, до которого дошли слухи о сумасбродствах Жиля де Рэ, ещё помнил о заслугах своего маршала и попытался остановить его разорение. В 1436 г. он запретил ему дальнейшие продажи имений, но король по-прежнему был очень слаб и его указ в Бретани попросту проигнорировали. Главные покупатели и кредиторы Жиля де Рэ – бретонский герцог Иоанн и его канцлер, Нантский епископ Малеструа, уже крепко вцепились в свою жертву и не желали отпускать её, даже про приказу короля. За бесценок скупившие почти все владения Жиля де Рэ, они все же испытывали некоторое беспокойство, так как договоры, заключенные ими с Жилем, давали ему право обратного выкупа. Сосед мог «взяться за ум», и его широчайшие связи при королевском дворе могли позволить ему со постепенно вернуть себе заложенные имения. Но в случае смерти Жиля де Рэ, его владения навсегда отошли бы в их собственность.» (Сеть)
– Вы совсем не верите в высшие и низшие силы, а так же в изначальную греховность человека? – спросил средневековый образованный француз. – Вы всё сводите к материи?
Я улыбнулся и сказал:
– Пойдёмте-ка в ад, посмотрим на Высшие и Низшие Силы.
Я сделал движение рукой, указывая на литеру М.
Сожжённый пэр Франции кивнул, и мы бодро шагнули в рукотворную преисподнюю.
– Сейчас посмотрим, была ли Жанна (подобно идее коммунизма – как Царства Божьего на земле) всего лишь символом, иллюзией: для-ради достижения поставленных элитой целей, – сказал я.
– И что будет, если Дева всего лишь символ для знатных кукловодов? – спросил сожжённый чернокнижник.
– Мы не выйдем обратно, – просто сказал я. – Тогда вера моя пуста, и мы могли бы и не распинать Христа: оставались бы в весьма комфортном аду фарисеев, где умершие лишь пребывают в безысходности такого же, но – лишённого чуда со-Бытия.
Так я подумал; быть может, зря.
На самом деле я много на себя брал.
Даже если Жанна – ложь манипуляций, сие не отрицает Невидимых Сил Бесплотных. А вот выйдем мы или не выйдем – так же зависело не от адова изволения: когда Бог отдаёт приказ, дьявол подчиняется.»
Жиль де Рэ мог бы мне возразить. Он всем видом давал мне понять это.
Мог бы сказать:
– Но я же вышел из ада (чтобы явиться вам), – но не сказал.
Тогда бы я мог предположить, что он стал слугой ада.
А он полагал себя слугой Девы. Тоже тяжёлый бред, конечно: он был слугой мифа о Деве. И явно плутал в приоритетах. Хотя это и позволило маршалу Франции стать героем. А потом и злодеем из сказки.
Перед нами был вход (в ад). Над ним литера М.
– Но это всего лишь «ваше» метро, средство коммуникации.
– Вот мы сейчас и коммуницируем с запредельем, – согласился я. – Вам это не впервой.
Мы миновали (замечу, Жиль де Рэ – совершенно бес-платно, почти как сила невидимая и бесплотная, а я приложил к сканеру проездной) металлический плетень турникетов и ступили на вполне вещественную самодвижущуюся лестницу, ведущую прямо в глотку давней истории.
Сейчас мы увидим, как Жиль де Рэ низвегался в преисподнюю.
«А между тем по всей округе вдруг пошли слухи, что у бывшего маршала и недавнего героя Франции проявились наклонности маньяка и садиста, что он, пользуясь своим высоким положением в обществе, якобы, приказывает своим слугам похищать мальчиков, которых неизменно убивает после надругательства над ними. Утверждалось, что подвалы замка завалены останками невинных жертв, и что наиболее симпатичные головы де Рэ сохраняет, как реликвии. Говорили также, что посланники Жиля под предводительством его главного ловчего де Брикевиля охотятся за детьми в окрестных городах и деревнях, а старуха Перрина Меффре заманивает детей непосредственно в замок. Народная молва связывала с Жилем де Рэ около 800 случаев исчезновения детей. Однако эта деятельность бывшего маршала не подпадала под юрисдикцию духовного или инквизиционного суда. Может показаться странным, но впоследствии эти преступления рассматривались в качестве второстепенных, вскользь, между делом, наравне с обвинениями в пьянстве и кутежах. Дело в том, что в XV веке во Франции ежегодно исчезали не менее 20 тысяч мальчиков и девочек. Жизнь ребенка бедных крестьян и ремесленников в те времена не стоила и гроша. Тысячи маленьких оборванцев, которых не могли прокормить родители, скитались по округе в поисках мелкого заработка или прося милостыню. Некоторые периодически возвращались домой, другие исчезали бесследно, и никто не мог с уверенностью утверждать, погибли они или прибились к какому-нибудь торговому каравану либо к труппе бродячих акробатов. Слишком вольное обращение с детьми на подвластных французским баронам территориях, как бы страшно это сегодня не звучало, в те времена не являлось чем-то из ряда вон выходящим, и не могло служить основанием для вынесения знатной особе смертного приговора, в котором были кровно заинтересованы многочисленные враги маршала. И потому главными преступлениями, которые следовало вменить в вину Жилю де Рэ, должны были стать богоотступничество, ересь и связь с дьяволом. Занятия алхимией также принимались в расчет, так как все еще оставалась в силе специальная булла Папы Иоанна XXII, предававшая анафеме всех алхимиков.» (Сеть)
Итак!
Говоря о перерождении элиты и смене парадигмы развития, мы словно бы загодя спускались в сословный (читай – чиновный, иерархический) ад.
Мы – препарировали благие порывы наших прежних большевиков-нечаевцев и нынешних душегубов-перестройщиков, видели их эволюцию (или регресс) и понимали: руководящие обществом элиты всегда упираются в этот плетень (своей делянки, с которой кормятся).
Они образовывают привилегированное сословие, устремлённое к самосохранению и воспроизводству; итак!
Когда была запущена сталинская репрессивная машина, дабы очистить от этой накипи несущие конструкции общества, сама накипь стала использовать этот механизм в своих целях.
– Так всегда бывает, – сказал пэр Франции. – Если уж кто-либо обретает статус, то редко когда исполняет другую функцию, нежели сохранения статуса.
– А ваше преображение подле Девы? – сказал я.
– Деву сожгли. А если – не сожгли, тогда – никакой Девы не было, была бесстыдная манипуляция коллективным бессознательным, – сказал сожжённый чернокнижник. – Посмотрим, поможет ли нам светлый образ её вернуться из вашего «рукотворного» ада.
– А вас ведь не совсем сожгли, – уточнил я.
– Да, меня сначала повесили, сожжён был уже труп.
– Когда бы не распяли мы Христа, – сказал я. – Посмотрим, сможет ли этот незначительный (на первый взгляд) факт сказаться на нашем будущем.
Пэр Франции усмехнулся:
– Вы об общем будущем?
Я промолчал. Речь шла не о прошлом или будущем «будущем», речь шла о настоящем. Эскалатор нас нёс вниз. Дно ада (которое – небо другого ада) уже близилось.

