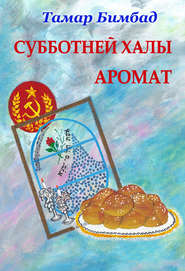
Полная версия:
Субботней халы аромат
В голове опять заныли и запрыгали страшные мысли: «А вдруг кто-то из соседей увидит меня и, между прочим, скажет Маме, что, мол, только что видел вашу Томочку, идущей по улице с мороженым в руках. О, ужас! Мои терзания совести продолжались. Приду я домой, и Мама вдруг спросит:
– А где же ты, доченька, взяла деньги на мороженое?
И что я, спрашивается, ей скажу?!
Страх разоблачения загнал меня в какой-то чужой двор, где я, найдя укромный уголок, повернувшись лицом к стене, быстро, давясь, запихнула в себя оставшееся мороженое. Затем надо было справиться со второй задачей, с семечками. А это уже было посложнее, так как семечек был целый стакан, их надо было поскорее перещёлкать. И куда, спрашивается, девать шелуху? Не могу же я усыпать шелухой свой укромный уголок, где в настоящий момент стою! Увидит кто-то и рассердится на меня. И будет прав.
Не помню сколько времени было потрачено на семечки, и как много мне удалось перещёлкать, но с меня было достаточно. Я вдруг поняла, что страшилки со своей собственной совестью, оказывается, не доставляют никакого удовольствия и даже губят его, причиняя боль где-то внутри. Закапали слёзы, превратились в ручьи. Я поняла, что эту боль я причинила себе сама, что впредь не захочу опять впопыхах давиться мороженым, прячась от прохожих глаз. Радости моя трёшка мне не принесла. Я выбросила остатки семечек в ближайшую урну, отряхнулась от шелухи, вывернула карманы, чтобы убедиться, что в них нет следов моего глупого преступления и побежала домой. Но след от этой истории остался со мной на долгие годы. Это был один из самых сильных уроков, преподанных мне Свыше.
Когда малыш приходит в советскую школу, его со временем награждают первой детской партийностью в виде нагрудного значка с изображением маленького трёхлетнего Ленина. Эта игрушечная, детская партийность называлась – Октябрёнок, в честь Октябрьской революции 1917 года, когда было покончено с царизмом, расстреляна царская семья и власть перешла к рабочим и крестьянам. Когда ребёнок получает этот значок, его гордому счастью и радости нет конца.
Второй уровень советской детской партийности – пионер. Этот титул требует определённых усилий от вступающего в пионеры. «Пионер – всем ребятам пример», как гласит очередной лозунг, усвоенный мною в школе. Имеется ввиду отличное поведение, учебные успехи, осознание роли наших вождей Ленина и Сталина и беззаветная любовь к своей Родине.
Третий уровень – это уже юношеская партийность – член ВЛКСМ[18], что тоже рассматривается как обязательная норма для всех юношей и девушек. Если кто-то не захочет вступить в комсомольские ряды, его считают неблагонадёжным членом общества. С ним отдельно работают, то есть объясняют роль ВЛКСМ, а иными словами – убеждают и уговаривают. Но первоначальное нежелание, независимо от того, послушался он или нет, навсегда становится идеологическим пятном на всю жизнь. Об этом пятне помнит комсомольская организация, оно непременно будет упомянуто в письменных характеристиках о данном комсомольце и всегда будет мешать ему жить.
Четвертый, взрослый уровень – член КПСС[19] – как партийность зрелого члена общества. Если хочешь занять в жизни значительное, возможно, руководящее место, если хочешь сделать профессиональную карьеру, если хочешь иметь право на заграничные поездки и привилегии, стань членом КПСС.
Мне было семь лет. Пришло и моё время начинать восхождение по партийной лестнице, быть избранной в пионеры. Процедура вступления всегда проводилась очень торжественно на общешкольной линейке. Из Красного Уголка, специально отведённой школой комнаты, выносились большие красные флаги, портреты наших вождей, и призывные лозунги. Все вступающие в пионерские ряды дети должны были дать клятву сказав: «Перед лицом своих товарищей я торжественно клянусь и обещаю быть верным продолжателем дела Ленина и Сталина…» и так далее.
Серьёзность обстановки подогревалась присутствием директора школы, учителей и учеников разных классов. Старшеклассники-комсомольцы повязывали красные галстуки нам, своим младшим товарищам, вступающим в пионеры. Улыбались все, и взрослые, и дети. Глаза присутствующих светились искренней радостью и счастьем. Это был незабываемый праздник в жизни каждого из нас.
И, как славный венец обряда посвящения, следовал призыв:
– Пионеры, к борьбе за дело Ленина и Сталина, за дело нашей коммунистической партии будьте готовы!
Все пионеры должны были отдать салют и громким хором ответить:
– Всегда готовы!
Что, спрашивается, знает семилетний ребёнок о «деле Ленина и Сталина»? О каком «деле» коммунистической партии идёт речь? Но от этого ребёнка уже требуется клятва верности и готовность вершить эти дела. Без всякого знания и понимания дети всей страны неосознанно проходили через эти партийные ступени, воспринимали приход каждой из них как праздник, искренне ликовали и радовались своему счастью. И при этом верили, что так и должно всё быть, и что это единственно правильный способ понимать себя в коллективе.
Я была полна ощущением того, что теперь я смогу и должна совершать героические подвиги для защиты моей страны от любых врагов. Я сильная и всё смогу! Я шла и, не обращая внимание на прохожих, пела чуть ли не во весь голос песню «Партия – наш рулевой», ноты которой купила мне Мама. Эту гордую маршевую мелодию, написанную советским песенником Вано Мурадели, я действительно очень любила, видя в ней крепкую энергию и силу. Семилетняя, я распевала её во весь голос дома, маршируя вокруг стола, стоящего посреди комнаты, просто так, для себя. В моём воображении представлялись героические краснознамённые картины и парады. И, приходя в себя от этих видений, я замечала слегка смешливую мамину улыбку и добрые искорки в её глазах, ласково глядящих на меня.
В тот знаменательный день я шла и думала о моих беленьких и смугленьких одноклассницах. Они такие разные, но все, как и я, согреты солнцем нашей великой Родины, как пелось в наших детских советских песнях. Огромный лозунг, висящий над Красным Уголком, ЗА ДЕТСТВО СЧАСТЛИВОЕ НАШЕ СПАСИБО, РОДНАЯ СТРАНА, каждодневно подтверждал право каждого маленького гражданина СССР на безоговорочное счастливое детство и уверенность в завтрашнем дне. Этот лозунг сопровождал меня по всем дошкольным и школьным учреждениям. Я упивалась своим советским счастьем, будучи октябрёнком, пионеркой и комсомолкой, не зная и даже не подозревая, что для многих детей в реальности это был мираж, приносящий боль и разочарования. По разным причинам. И что были семьи с ярлыком врагов народа, дети которых хлебнули немало взрослого горя. Были семьи, которые сознательно старались оградить своих детей от советской системы с её искусственно созданной идеологией и дать им совсем другие духовные ценности.
Все истории о детях, рассказанные в этой главе, реальны. Они должны быть поняты читателем как собирательные типичные образцы того, насколько в действительности «счастливым» было детство в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик.
Боренька
Начало июля 1941 года. Одесса.
Раннее утро предвещало тёплый светлый день. Голуби воркуют на крыше, весь двор ещё спит.
Тревожный настойчивый стук в дверь за мгновение ока прогнал сладкую сонную дремоту.
– Мадам Бродская! Проснитесь! Мадам Бродская! Дорочка!
Бабушка Рахиль Давидовна бросилась к дверям и загремела цепочкой.
– Кто там? О! Это вы, мадам Фанштейн? Сейчас… Минуточку… Входите пожалуйста. Что случилось? – спросила она, впуская раннюю гостью.
– Мадам Бродская, вы же знаете, мой зять служит в пожарной конторе. Как для семьи пожарника, к нам где-то через час-полтора пришлют машину уехать с Одессы подальше. Немцы ведь совсем близко. Вот-вот будут здесь. Нам всем надо бежать, вы знаете почему. Едемте с нами, мы скажем, что мы все – одна семья.
– А вдруг нам не поверят? Что тогда?
– Поверят-не поверят… Собирайтесь! Нас ведь только двое, я да Евочка. Скажем, что мы все одна семья. Берите самое необходимое, документы, вещи для Бореньки, тёплое что-нибудь. Вы сами знаете. Тольки скорее… Всё! Собирайтесь!.. У нас час времени… Всё, убегаю… Пока, пока, пока…
Мадам Фанштейн и мадам Бродская жили дверь в дверь с незапамятных времён и по старой привычке называли друг друга непременным титулом «мадам». Они прекрасно знали имена, но иначе не общались. Не понимали иначе. В этом выражалось их взаимное уважение в ключе старых духовных ценностей и хороших манер. Мадам Бродская была полненькая, с активно редеющей кудрявой рыжей головой. Мадам Фанштейн была посуше и казалась маленькой рядом с ней. За много лет жизни рядом их семьи почти сроднились и делили все беды пополам. С юности дружили между собой и их девочки, Дорочка и Ева. Они обе были замужем, и Боренька, рыженький, как бабушка и мама, был первым представителем третьего, самого юного поколения в их семьях.
Пришла беда, началась война. Мужчины обеих семей, кроме дедушки Ефима Абрамовича, были призваны на фронт. Правда муж Доры, Тимофей (Товье) Бимбад, ещё до рождения Бореньки начал учёбу в Москве в Лётной академии. Он ушёл на фронт прямо с институтской скамьи, не успев повидаться с семьёй и не увидев ни разу маленького сына. В первые дни войны их, молоденьких недоученных курсантов, посадили в самолёты и послали защищать родное небо. Он был одним из тех, кто погиб в эти первые дни, «пал смертью храбрых или пропал без вести», как было сказано в полученной похоронке.
Немцы успешно врубались вглубь Украины и люди, кто как мог, пытались обезопасить себя, покидая город. Эвакуация еврейского населения Одессы шла полным ходом. Уезжали все, кто только мог. А те, кто не мог по любым причинам, ворочаясь, не спали ночами, одни – надеясь на немецкую порядочность, другие – неизвестно на что. Бродские не испытывали иллюзий и, понимая ситуацию, были благодарны судьбе за возможность уехать вместе с близкими им Фанштейнами. Их было четверо: мадам Бродская, то есть Рахиль Давидовна с мужем Ефимом Абрамовичем и их дочь Дора с маленьким полуторагодовалым Боренькой.
Ни Бродские, ни Фанштейны не знали, не гадали, куда они едут. Ясно было одно: надо покинуть родной город, бежать любой ценой, подальше вглубь страны, на восток. Пусть даже в неизвестность, пусть на долгие лишения, но подальше от кровавых трагедий.
Бабушка разбудила всех и сообщила о неожиданном предложении мадам Фанштейн. Решение пришлось принимать очень быстро. Час незаметно пролетел в срочных сборах. В расстеленные на полу простыни скидывали всё самое необходимое, связывая в узлы. Собрали еды на дорогу, одели и накормили Бореньку, присели на минуту в знак прощания с родным домом. Оглядели все уголки и в последний раз всплакнули, глядя на оставленные на стенах портреты своих дорогих и уже погибших мальчиков: сына Абраши и отца Бореньки, Тимы. Впопыхах не догадались прихватить с собой никаких фотографий. Кто бы мог предположить тогда, что всё то, что было им дорого, будет растоптано злым антисемитским сапогом дворника, ждавшего прихода немцев всей своей ничтожной душой. Как рассказывали Бродским потом, дворник топтал стекло портретов и разорвал в клочки репродукцию могилы праматери Рахели, которую так любила бабушка, названная Рахелью в её честь. Выброшенными в мусор оказались и фотографии. Поэтому Боренька никогда не видел лица своего отца, зная о нём только из рассказов взрослых…
Фанштейны уже стаскивали свои вещи со второго этажа вниз. И чуть только обе семьи собрались вместе возле дворовых ворот, как показался посланный за ними грузовик. В нём уже сидели семьи других пожарников. Никто не поинтересовался родственными отношениями Бродских и Фанштейнов. Никому эта информация не была нужна. Важно было одно: пришла огромная беда, которую никто не мог ещё толком осознать. Беда одна на всех. Любые вопросы казались бы нелепыми. Единственное, что имело значение, было время: скорее, скорее, пока не поздно, надо торопиться и бежать.
Боренька сидел, доверчиво прижавшись к маме, и, наверное, чувствовал, как взволнованно бьётся её сердце, охваченное тревогой неизвестности в предстоящей дороге. Прощайте все, кто пока сладко спит под утреннее воркование голубей!
Прощайте, родные улицы и двор, где столько было хожено и пройдено, где каждый уголок и каждый камень булыжной мостовой был бесконечно дорог!..
Их привезли на какой-то грузовой узел, где было множество товарных вагонов и толпы людей, охваченных отчаянными попытками пробиться в любой вагон, пытались найти островок спасения для своей семьи любой ценой.
Боренька крепко держался, прижавшись к бабушке, обняв её за шею. Дора с отцом тащили все вещи, не спуская глаз с бабушки и Бори. Наконец, покончив с погрузкой в один из вагонов, Бродским вдруг стало ясно, что в толчее посадки они потеряли из виду Фанштейнов. В этом вагоне их не было и заниматься розыском в такой ситуации было невозможно. Расстроенные потерей друзей, с тяжестью в сердце, они и так уже были без сил. Кричали потерявшие друг друга люди, плакали дети, везде были наставлены горы сумок, чемоданов и узлов. Сесть было негде и не на что. Набившиеся в вагон люди стояли вплотную, как в переполненном трамвае.
Наконец двери с лязгом закрылись, и поезд двинулся. Не важно куда, лишь бы на восток, подальше от края могил, которыми уже были усыпаны оккупированные территории. Застучали колёса, потекли часы, слагаемые в длинные дни, а дни – в длинные недели.
Постепенно всё как-то улеглось. Люди разместились, как смогли, определили свои пожитки. Успокоили издёрганных посадкой детей. Наконец у некоторых появилась возможность присесть на чемодан, или прямо на пол. Кто-то всё ещё стоял, держась за стены, за друг друга или безо всякой опоры, будучи зажатым телами других. Передвигаться по вагону было невозможно, да и некуда. Особенно трудно было ночью: куда не ступи, как не повернись, в полнейшей темноте натыкаешься на руки-ноги пытающихся спать людей, сидящих или лежащих под ногами в самых неожиданных позах. Большинство, сгрудившись, спали, или, скорее, дремали, стоя, опираясь друг на друга. Десятки измученных людей вообще не могли спать и просто стояли с закрытыми глазами, погружённые в тяжёлую тревожную дремоту.
Разумеется, туалета там не было, не было даже ведра для срочной необходимости. Да если бы и была какая-то посудина для этих целей, кто бы мог ею воспользоваться? Ведь люди – не скот, они не могут справлять свои надобности на публике. Но естественные потребности ещё никто не отменял, и многие, проходя через муку, едва выдерживали до остановки поезда где-нибудь в зарослях или посадках, чтобы остановить кошмар воздержания в каком-нибудь укромном месте. Время, выделенное на эти остановки, было коротким и тревожным, так как никогда не знаешь, когда раздастся гудок паровоза, зовущий тебя назад. А если вдруг бомбёжка? Надо бросить свой естественный процесс на любой стадии и изо всех ног бежать назад к своему вагону. И дай Б-г добежать!
В мирное время в таких вагонах перевозили скот, поэтому и пол, и стены были пропитаны тяжёлым запахом навоза, а теперь ещё и человеческих тел, мокрыми детскими штанишками, сохнувшими без стирки. Сотни людей, забыв про гигиену и ароматы, пытались дать отдых затёкшим за день спинам да онемевшим от неподвижности ногам и хоть немного, если это удавалось, отдохнуть сидя или, если повезёт, лёжа. Спали, присев под стенкой вагона, спали, прислонившись спинами друг к другу, ворчали и мирились, вскрикивали от приснившихся кошмаров, спали мёртвым сном под плач детей.
Видя горькую возбуждённость взрослых, дети замыкались в себе, не слезая с рук, отчаянно рыдали и нервничали, с трудом понимая происходившее вокруг. Окон в вагонах не было, если не считать маленькие оконца почти под самым потолком. Их явно не хватало для притока свежего воздуха. Но они были источником хоть какой-то радости для детей, с трудом переносивших однообразие своего тюремного заточения в полумраке вагона. Время от времени родители, стараясь успокоить и развлечь детей, поднимали их к этим оконцам, давая возможность полюбоваться зеленью пробегающих пейзажей.
Маленький Боренька был несказанно счастлив, когда эта радость выпадала и ему. Он не помнил сюжетных подробностей увиденного: уж очень быстро картинки сменяли друг друга. Но и через десятки лет, будучи взрослым, он помнит радующий глаз цвет свежей зелени, солнечный свет и тепло, какой-то мост, бегущие за окном их вагонного заточения.
Время от времени поезд останавливался на каких-то станциях для заправки водой и углём, и беженцы могли выскочить из вагонов по своим делам. В один из таких моментов дедушка Ефим Абрамович побежал вдоль состава и нашёл Фанштейнов. Как оказалось, им удалось разместиться в предпоследнем вагоне, но, возвращаясь назад, и ещё не успев добраться до своего вагона, он услышал тревожный гудок паровоза, кричавший о неожиданном отправлении. Поезд тронулся с места и постепенно набирал скорость, а обессиленный Ефим Абрамович никак не мог добежать до цели. Собрав в кулак остатки сил, он сделал отчаянный рывок и, наконец, сумел зацепиться за последний вагон.
Сообщений между вагонами не было. Бабушка Рахиль Давидовна и Дора не находили себе места, не зная, что и думать, а в голову приходило самое плохое.
– Готеню, Готеню, – причитала со слезами бабушка, – помилуй и помоги. Не дай случиться беде.
К кому ещё, если не к Вс-вышнему, можно было обратиться в такую минуту? Кто вообще мог бы помочь? А поезд, поспешно перестукивая колёсами, неумолимо бежал и бежал прочь от той станции, где потерялся дедушка Ефим Абрамович.
Вдруг раздался страшный скрежет неожиданных тормозов. Многие не удержались на ногах и, хватаясь за воздух, попадали как попало на замусоленный пол вагона.
– Немцы! Воздух! Самолёты! – тревожно прогудел гудок паровоза. Гудел он долго, настойчиво, почти до полной остановки поезда. Двери теплушек с лязгом отворились, и орущая от ужаса толпа ринулась в близлежащие посадки, в заросли всё ещё зелёной, густо насаженной кукурузы.
Непонятно, что было громче – рёв пикирующих самолётов, налетевших на состав, или вопли и крики перепуганных и стонущих людей. Пожалуй, всё перекрывали страшные хлопки взрывов и автоматных очередей, поливающих сверху беззащитных, обезумевших от ужаса стариков, женщин и детей. В момент не стало видно солнца и только что, всего минуту назад, голубевшего неба. Клочья взлетающей, вспаханной взрывами земли сваливались назад, засыпая головы и тела живых и мёртвых.
Боренька лежал прямо на земле под неловко упавшей на него мамой. Дора прикрыла его собой и никак не могла разжать дрожащие руки, крепко держащие ребёнка. Боренька испугался больше, чем ушибся, вырывался и кричал без остановки, впав в состояние отчаянного перепуга, из которого он никак не мог выйти. Дора боялась отпустить сына, всё держала и держала, прижав к себе его дрожащее тельце.
– Тише, Боренька, тише! Не кричи ты так, не плачь, всё будет хорошо, – говорила она ему.
Дора изо всех сил старалась не дать ребёнку увидеть огонь, взрывы, кровь и ужас на лицах людей. Вдруг рядом она увидела Рахиль Давидовну:
– Мама! Мамочка! Ты как?
Бабушка Рахиль Давидовна вдруг споткнулась, подвернув ногу, и упала. С трудом поднявшись, не выпуская малыша из рук, Дора кинулась к матери, помогая ей подняться на ноги. Раздался гудок паровоза, зовущий всех назад в вагоны.
Цепочка вагонов, как оказалось, стала короче. Где-то ближе к концу состава пылал разбитый от прямого попадания вагон, за которым беспомощно осталось несколько других вагонов, сошедших с повреждённых путей. Люди метались и кричали, звали близких, рыдали и тащили раненых, торопясь к поезду. Многие остались лежать в кукурузе, уже никуда не торопясь. Шок, боль, трагедия утрат, кровь, испуг, выживание под обстрелом, нехватка сил, эмоциональный и физический надрыв – всё смешалось вместе в дьявольский коктейль трагедии. Дымилась земля, дымилась кукуруза, дымился разбитый вагон, стон стоял над землёй, слёзы и пот текли по грязным измученным лицам. Война! Вот она какая, эта война!
Дора с Боренькой влезли в свой вагон, а бабушка Рахиль Давидовна, подвернувшая ногу, замешкалась у двери медленно тронувшегося поезда. Крепкие руки буквально втащили её в вагон. Среди лиц этих людей она вдруг отчётливо увидела лицо мужа. Не веря своим глазам после только что пережитого ужаса бомбёжки, она вдруг обмякла, ослабела и потеряла сознание.
Подоспевшие люди всё ещё впрыгивали в вагоны на ходу, помогая друг другу. Надо было торопиться, чтобы скрыться в зелёной посадке, пока самолёты, делая новый виток, видимо готовились к следующей атаке. Поредели ряды добежавших до поезда людей, всеобщее горе, ужас и измождённость охватили всех. Прильнув к близким, повзрослевшими стали всхлипывающие дети.
Обнимая жену и дочь, крепко прижимая к себе маленького внука, Ефим Абрамович сказал, что видел Фанштейнов в предпоследнем вагоне, но поговорить с ними не смог. Теперь они потерялись опять, так как их вагон, сошедший с рельс, остался стоять за разбитым вагоном. Спасая уцелевший состав, всех тех, кого ещё можно было укрыть от новой бомбёжки, поезд ушёл без них. Надежда на то, что Иде Исааковне и Еве удалось добежать до других отъезжающих вагонов была очень слабой.
Застучали своим ритмом колёса. Но тяжёлая рана пережитого острой болью вонзилась в сердце каждого. Война! И это было только начало того, что каждому ещё было суждено увидеть, выстрадать, перестрадать, перенести и, дай Б-г, возможно, уцелеть и выжить.
Больше месяца провели Бродские в пути. Они уже сбились со счёта, сколько бомбёжек пришлось им пережить. К счастью, никто из них не потерялся и не отстал. Все были вместе, стойко встречая все тяготы бегущих навстречу бед. Бабушка Рахиль Давидовна всё ещё подхрамывала, молча снося боль при каждом шаге. Боренька часто просыпался и плакал по ночам при каждом сигнальном гудке, при лязгающем звуке вагонных дверей. С наступлением темноты вагон погружался в непроглядный мрак, внушая ужас и перепуг детям и взрослым.
Чем больше продвигался поезд, уходя вглубь страны, тем реже повторялись бомбёжки и тем ближе подходил другой враг – ГОЛОД.
В довоенные времена на всех станциях к поездам подносили большой ассортимент чего-нибудь съедобного: фрукты, овощи, яйца, даже запечённых кур и рыбу, булочки и пирожки домашней выпечки. Были бы только деньги! Купить можно было всё!
Местные жители промежуточных городов и станций знали, что у беженцев в пролетающих мимо поездах не было ни денег, ни вещей для обмена за еду. Но всё равно несли к поездам то, что есть, то, чем могли поделиться. Несколько яблок, несколько картошин, лук, да огурчики с помидорами. Хоть немного, да удавалось продать. А если беженцам не на что было купить или дать в обмен, часто давали им хоть что-нибудь бесплатно. Но еды на станциях становилось всё меньше и меньше. Поэтому, находясь в дороге, взрослые голодали, отдавая всё, что имели, детям. Продукты достать было очень трудно.
Так было и у Бродских. Все оставшиеся крохи они старались приберечь для Бореньки. Дора и бабушка как-то справлялись, старались утолить голод водой. А вот дедушка Ефим Абрамович быстро худел и слабел на глазах. Он не жаловался и молча терпел, убеждая себя, что скоро они приедут в Ташкент и всем станет легче.
– Ташкент – город большой, – думал он. – Возможность найти работу и способ выжить непременно подвернутся. Вот тогда я и смогу позволить себе кусочек-другой.
Ташкент, столица Узбекистана, был целью путешествия не только для Бродских. Вместе с ними прибыли сотни других семей, бежавших с территорий, пока ещё не оккупированных немецкими захватчиками. И это не был единственный пришедший сюда эшелон. В Узбекистан стягивались поезда изо всех прифронтовых территорий. Ташкент оказался наводнённым тысячами голодных, без надежды на кров беженцев, которых никто не встречал, и никто не ждал. Не имея ни малейшего представления, как налаживать свою жизнь, люди ютились прямо на привокзальной площади, под открытым небом. Если находилось какое-нибудь одеяло или простынь, которую стелили прямо на землю, можно было ощутить это место как клочок своей собственной территории, служившей пристанищем. Беженцы были измучены голодной дорогой, многие были ранены и больны, среди них были разного возраста дети, уже прошедшие через ужас бомбёжек и личных трагедий. Многие из этих детей уже успели осиротеть и вступали на путь самостоятельного выживания.
Администрация города явно не справлялась с размещением вновь прибывших. Местное население, не всегда готовое на гостеприимство, постепенно принимало отдельные семьи под свой кров. Приехавших регистрировали, выдавая талоны на мизерную еду в виде пустоватого супа, слабо заправленного мукой.
– Вода! Горячий вода! – раздавался на площади постоянный клич. Это было единственным, что всегда можно было получить.
Осиротевших детей устраивали в детские дома. Но толпы бездомных, беспризорных мальчишек рыскали по площадям и базарам, промышляя мелким воровством, охотясь за продуктовыми карточками драками, силой, групповыми атаками на слабых, старых, наивных и немощных людей, добывая себе этим скудное пропитание.



