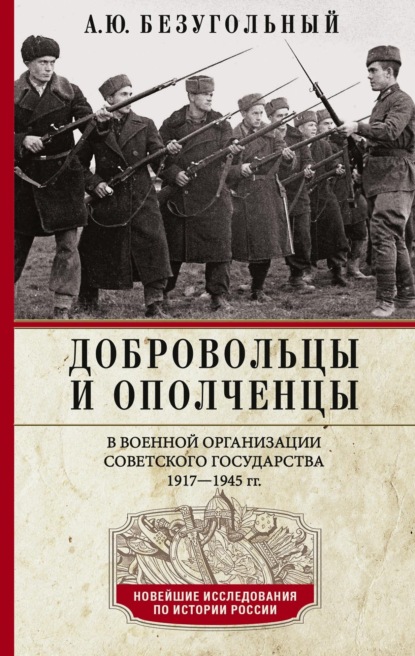
Полная версия:
Добровольцы и ополченцы в военной организации Советского государства. 1917—1945 гг.

Алексей Юрьевич Безугольный
Добровольцы и ополченцы в военной организации Советского государства
1917–1945 гг
© Безугольный А.Ю., 2025
© «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2025
Введение
Добровольчество первых десятилетий советского строя – явление совсем не только из области военной истории. Вступление в колхоз, участие в субботнике, социалистическом соревновании с соседним предприятием, перевыполнении производственного плана, взносах на те или иные нужды и многом другом – подменяя собой экономические, социальные, карьерные стимулы, советское добровольчество (за которым, особо не маскируясь, очень часто виднелись государственное принуждение и штурмовщина) было повседневностью советского человека, средством мобилизации общества на решение экономических, социальных и военных задач власти. В свою очередь, тотальная милитаризация общественной жизни также готовила человека в любой момент встать под ружье. «Не нужно забывать, – отмечалось еще в 1927 г. в военно-теоретическом журнале „Война и революция“, – что в настоящее время во всех государствах проводится практическое выполнение идеи „вооруженного народа“ путем военизации и подготовки всего населения, годного к военной службе»[1]. Два этих обстоятельства – добровольческие кампании во всех сферах жизни и поголовная военизация – создавали благоприятную почву для развертывания военной добровольческой кампании фактически в любой момент. Поэтому отклик общества на призыв государства стать добровольцами-комбатантами и не мог принять иной формы, кроме как немедленной массовой записи в райкомах и военкоматах.
Военное добровольческое движение в первые десятилетия советской власти было не только массовым, но и весьма разнообразным. Оно развивалось под воздействием множества факторов, что затрудняет его классификацию и анализ. При ближайшем рассмотрении это с виду такое простое и очевидное социальное явление представляется без преувеличения terra incognita истории отечественных вооруженных сил. Оно не имеет ни общей источниковой базы, ни сколько-нибудь устоявшейся методологии исследования, ни, как следствие, удовлетворительных и непротиворечивых результатов изучения.
Задача данной книги видится мне не в разборе боевого пути формирований, укомплектованных добровольцами, – эта работа в основном уже сделана моими предшественниками. Тем более что постоянная ротация личного состава вследствие боевых и небоевых потерь, переформирований и иных причин довольно скоро оставляла от первоначального состава добровольцев лишь крохи. Об этом надо помнить, когда мы держим в руках объемные труды по истории того или иного соединения, начавшего свой боевой путь как добровольческое у стен Москвы или Ленинграда и дошедшего, условно говоря, «до Рейхстага»[2].
В фокусе внимания данного исследования – сам феномен добровольчества, под которым понимается своеобразное пограничное социальное положение гражданина между статусом гражданского лица и военнослужащего. Многие добровольцы рано или поздно зачислялись в кадры Красной армии, то есть становились военнослужащими, сливаясь с общей массой кадровых военных. Для одних этот путь был очень коротким: человек по собственному желанию являлся в военкомат и сразу принимался в кадры Красной армии, направляясь затем или в запасную часть для военного обучения, или непосредственно в действующие войска. У других на это уходило от нескольких недель до нескольких месяцев: укомплектованные преимущественно добровольцами истребительные батальоны или ополченческие дивизии занимались боевой подготовкой под опекой гражданских властей и через какое-то время направлялись в ряды Красной армии. Для кого-то этот момент и вовсе не наступил: добровольческие формирования могли быть распущены, а их участники возвращались на свои рабочие места.
Так или иначе, перед нами своеобразная «серая зона», в которую уместилось огромное количество социальных процессов и отношений: мотивация власти, вербующей добровольцев, и мотивация самого добровольца, откликающегося на призыв власти; нормативное регулирование добровольчества и социально-правовое положение добровольца; принципы и формы комплектования добровольческих частей; деятельность центрального и местных партийно-государственных аппаратов и органов военного управления по вербовке добровольцев и организации добровольческих частей. Все это составляет предмет данного исследования, и в такой постановке вопроса, на мой взгляд, тема добровольчества еще не рассматривалась.
В этой книге термин добровольческий будет употребляться по отношению к широкому перечню военизированных и военных формирований – добровольческим кадровым соединениям Красной армии, народному ополчению, истребительным батальонам, казачьим и некоторым национальным частям, коммунистическим, рабочим и т. д. Правда, строго говоря, сама добровольность комплектования, ставшая незыблемой аксиомой для всей советской и российской историографии и давшая название этой книги, нуждается в серьезной оговорке. Ни одно из добровольческих формирований не являлось в подлинном смысле слова добровольческим, поскольку в организации каждого из них найдется немало фактов комплектования по назначению или принуждению – командный состав часто назначался из кадра Красной армии, а политический и медицинский – райкомами партии; военные специалисты (артиллеристы, пулеметчики, саперы и т. д.) также нередко направлялись из кадра Красной армии; для коммунистов и комсомольцев участие в таких формированиях обычно было обязательным; восполнение потерь осуществлялось мобилизованным личным составом; сам процесс вербовки добровольцев мог сопровождаться изрядным административным нажимом на кандидатов и т. д. Проблемам добровольности далее будет посвящено много страниц. Однако, несмотря на массу исключений, в основе своей такие формирования оставались добровольческими и обладали специфическими признаками, отличавшими их от «обычных» кадровых частей Красной армии. С этой важной оговоркой под добровольческими военными формированиями в этой книге понимаются кадровые формирования Красной армии, комплектовавшиеся военнослужащими на добровольной основе. Под добровольческими военизированными формированиями понимаются те, которые имели признаки военной организации и комплектовались в основном гражданскими лицами; такие формирования обобщенно можно отнести к ополченческим. Ополчение являет собой столь специфическую категорию добровольчества, что я посчитал нужным также вынести его в заголовок книги.
Отмечу, что термин «добровольческие военизированные формирования» достаточно широко применяется для определения народного ополчения и истребительных батальонов современными авторами (Б.Г. Усик, Г.Д. Пилишвили и др.), а также современными фундаментальными академическими трудами по истории Великой Отечественной войны[3] и Военной энциклопедией[4].
Кроме добровольческих формирований, предметом данного исследования явились и индивидуальные добровольцы – лица, поступавшие в обычные кадровые части Красной армии. Однако следует иметь в виду: добровольцы, зачисляемые в недобровольческие части, чаще всего немедленно и безвозвратно исчезают из поля зрения историка: за исключением периода Гражданской войны, их специальный учет не велся органами военного управления. Тем не менее источники позволили сделать определенные наблюдения и в этой области.
Наконец, внимание уделено и особой, относительно немногочисленной, но устойчивой категории добровольцев – сверхсрочнослужащим. Это профессиональные солдаты и младшие командиры, в которых нуждается любая массовая армия современности.
Итак, добровольцами могли пополнять кадровые части Красной армии, а могли – особые, ополченческие, комплектуемые преимущественно гражданскими лицами. Добровольческие формирования кадрового типа формировались по штатам соединений и частей Красной армии, в то время как в ополчении штаты нередко приходилось подгонять под наличные людские и материальные ресурсы. Второй тип добровольческих формирований – феномен прежде всего Великой Отечественной войны.
Период Великой Отечественной войны оказался самым сложным этапом в выбранных хронологических рамках. Не случайно ему посвящена значительная часть книги. Вряд ли будет ошибкой сказать, что количество созданных в 1941–1945 гг. добровольческих военных и военизированных формирований от взвода до корпуса и даже армии исчисляется тысячами; они различались по организации, подчиненности, принципам комплектования и боевой судьбе.
Добровольческие формирования периода Великой Отечественной войны можно классифицировать следующим образом:
– народное ополчение, рабочие и коммунистические части и соединения;
– истребительные батальоны и полки;
– партизанские формирования;
– казачьи кавалерийские дивизии;
– кадровые добровольческие формирования Красной армии (стрелковый и танковый корпуса добровольцев, формировавшиеся в Сибири и на Урале);
– некоторые национальные формирования;
– женские добровольческие формирования.
Предложенная классификация не является исчерпывающей; к тому же повторю еще раз: ни один из перечисленных типов формирований не комплектовался исключительно добровольцами.
Львиную долю добровольцев в годы Великой Отечественной войны вобрали в себя части народного ополчения и истребительные батальоны. Последние относились к формированиям ополченческого типа (комплектовались гражданскими лицами), однако подчинялись органам НКВД. В отечественной историографии приняты такие данные (впервые они без ссылок на источники были обнародованы в официозной «Истории КПСС» в 1970 г.): ополченцы были организованы в 60 дивизий и около 200 отдельных полков народного ополчения[5]. Истребительных батальонов к концу июля 1941 г. было сформировано 1755 общей численностью более 328 тыс. человек[6]. Всего, по тем же данным, за годы войны не менее 4 млн человек изъявило желание вступить в народное ополчение, причем около 2 млн человек сражалось с врагом уже летом и осенью 1941 г. Эти цифры стали аксиомой и тиражируются во всех без исключения работах. Благодаря наличию централизованного делопроизводства, недавно удалось частично верифицировать данные по истребительным батальонам, о чем будет сказано ниже. Что касается обобщающих цифр – 4 млн заявлений и около 2 млн добровольцев в 1941 г., – подтвердить или опровергнуть их пока не представляется возможным.
Современная Военная энциклопедия, которую можно считать определенной нормой в военно-исторической терминологии, определяет народное ополчение в Великой Отечественной войне как «добровольческие военные и военизированные формирования из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации, создававшиеся для помощи действующей армии и усиления охраны тыла…»[7]. Среди существенных признаков ополчения исследователи еще выделяют его временный и оборонительный характер, а также более широкий возрастной диапазон ополченцев по сравнению с кадровыми военнослужащими[8].
Истребительные батальоны стоят несколько особняком – это военизированные формирования, имевшие достаточно четкую организационно-правовую основу и вертикальную организацию в системе НКВД. В литературе существуют противоположные мнения о сущности этих формирований, и прежде всего о том – относить их к ополченческим или нет. Достаточно часто их характеризуют как добровольческие и называют «формой народного ополчения»[9]. Другие исследователи[10] выделяют истребительные батальоны в отдельную категорию. Вопрос с терминологическим разграничением между ополчением и истребительными батальонами действительно не прост, и с разных временных и региональных ракурсов в истребительных батальонах можно разглядеть и полное сходство, и совершенно противоположные с ополчением признаки. Централизованная вертикаль с единым штабом, включенность в структуру НКВД, выполнение специфических патрульно-постовых, охранных, караульных задач, которые не на кого больше было возложить, – с одной стороны. С другой – повсеместное нарушение упомянутой вертикали, нечеткость организационной структуры многих истребительных батальонов, гражданский статус рядового состава, сохранение за ним рабочего места и заработной платы, большая текучесть кадров и перманентное «поглощение» батальонов войсками Красной армии. Все эти признаки роднят истребительные батальоны с народным ополчением. С этими оговорками истребительные батальоны будут рассмотрены в данной книге.
За пределами исследования добровольчества периода Великой Отечественной войны остались некоторые другие военизированные формирования периода 1941–1945 гг., также комплектовавшиеся в значительной степени добровольцами, – партизанские и диверсионные отряды (в силу того, что воевали за линией фронта) и местная противовоздушная оборона – МПВО НКВД (в силу того, что ее подразделения вообще не выполняли боевых задач).
Историография добровольчества представляет собой сложное явление. Тематически основное место в ней занимают работы, посвященные периоду Великой Отечественной войны. История добровольчества периода Гражданской войны интересовала прежде всего историков советского периода, и в современной России изучение этого явления почти сошло на нет. Опыт комплектования Красной армии и флота в 1918–1922 гг., в том числе на добровольных началах, кратко освещен в работах по истории Гражданской войны в СССР[11], а также в отдельных исследованиях[12]. В некоторых работах рассматривается история создания в 1917 г. Красной гвардии на добровольной основе и ее участия в начальной фазе Гражданской войны в России[13], обстоятельства составления и принятия декрета об организации добровольческой Красной армии[14], вопросам комплектования Красной армии людскими ресурсами[15]. Наиболее квалифицированными работами, посвященными вопросам комплектования Красной армии в годы Гражданской войны, остаются книга Н.Н. Мовчина, изданная столетие назад[16], а также монография С.М. Кляцкина, посвященная строительству вооруженных сил Советской России в годы Гражданской войны[17].
Первыми исследованиями, посвященными добровольчеству в годы Великой Отечественной войны, стали работы об ополчении Ленинграда[18]. В них затронуты вопросы формирования и комплектования различных некадровых воинских образований, в большей или меньшей степени комплектовавшихся добровольцами: дивизий народного ополчения, артиллерийско-пулеметных батальонов, истребительных батальонов и рабочих отрядов.
Н.А. Кирсанов в 1970 г. сначала защитил кандидатскую диссертацию, посвященную партийным мобилизациям в войска[19], а затем написал несколько монографий и статей о различных аспектах добровольчества[20].
Истребительным батальонам и полкам, повсеместно создававшимся в период войны, посвящены единственная монография советского периода С.В. Биленко, учебные пособия Ф.Г. Банникова, П.С. Хвичии[21]. В ряде работ рассмотрены отдельные добровольческие соединения[22] и региональные ополчения[23]. Наиболее плодотворен в советский период был А.Д. Колесник, издавший несколько монографий о народном ополчении[24]. Отчасти вопрос добровольчества затрагивается в монографии А.М. Синицына[25]. Недостатки в формировании добровольческих частей (неподготовленность личного состава, низкая квалификация командиров, отрыв высококвалифицированных специалистов от народного хозяйства, неоправданные потери среди них и т. д.) были отмечены в труде «Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1963)[26]. В целом в советское время драматическая история московского, ленинградского и других ополчений, разделивших с Красной армией горькую участь первого периода войны, находилась под спудом идеологических ограничений, в силу чего многие острые вопросы в советской литературе не затрагивались. В то же время, хотя и в идеологических рамках, советские исследователи (А.Д. Колесник, Н.А. Кирсанов, С.В. Биленко и др.) старались широко охватить материал, отчасти сделав обобщения общесоюзного масштаба.
Последняя крупная работа советского периода, посвященная ополчению, была издана небольшим тиражом коллективом авторов (П.В. Добров, А.Д. Колесник, Г.А. Куманев, Я.Е. Пашко) в 1990 г. Хотя книгу совсем не затронули новые политические веяния, ее ценность состоит в осмыслении исторического опыта ополчения. В первой главе книги представлена попытка классифицировать ополченческие формирования, определить общее и особенное в истории добровольческих частей. При этом авторы констатировали, что проблема создания и боевого использования народного ополчения «до сих пор принадлежит к числу все еще мало исследованных и весьма скупо освещенных в советской исторической литературе»[27].
В современной России институт добровольчества изучается в основном в региональном аспекте, тем более что материалы по истории добровольческих формирований отложились в основном в местных архивах. Среди современной литературы встречаются примеры весьма качественного и полного освоения региональных архивных источников. В центре внимания исследователей – ополчения, создававшиеся в Тульской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Омской областях, Красноярском, Краснодарском краях[28]. Очень большую работу по выявлению, публикации и анализу материалов, связанных с добровольческими формированиями, участвовавшими в обороне Сталинграда, провели волгоградские историки под руководством М.М. Загорулько, Б.Г. Усика. Перу последнего принадлежит кандидатская диссертация и написанная на ее основе фундаментальная монография о сталинградском ополчении – одна из наиболее качественных работ по ополченческой тематике, характеризующаяся глубиной поиска и проработки источников[29]. Определенный интерес представляет изданная в 1996 г. монография П.В. Доброва, посвященная народному ополчению[30]. Будучи исследователем из Донецка, Добров много внимания уделил региональным ополчениям, в том числе создававшимся в украинских городах. Изучаются казачьи добровольческие формирования[31]. Среди работ на эту тему следует выделить добротную диссертацию А.В. Агеева, основанную на хорошей источниковой базе[32]. Также отмечу диссертацию и статью М.И. Тягура, в которых сделаны серьезные шаги в исследовании истории добровольческих лыжных батальонов, формировавшихся во время Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.[33]
Из всех формирований народного ополчения по-прежнему наиболее полно освещается история московского[34] и ленинградского[35] ополчений. Многим дивизиям посвящены отдельные книги, а иногда и не по одной. Среди немногочисленных обобщающих работ по истории московского ополчения следует отметить книгу В.И. Каримова «Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы»[36], носящую энциклопедический характер. В работе отображен боевой путь 12 дивизий народного ополчения, сформированных в июле 1941 г., и 4 дивизий октябрьского формирования. Приведены обстоятельства и места формирования, особенности комплектования личным составом, командование дивизий и полков, награды и отличия, проанализирован боевой путь московских соединений на дальних и ближних подступах к столице, а затем и на других участках фронта.
Аргументированный анализ генезиса московского ополчения в первые дни и недели войны представлен в большой статье О.В. Будницкого[37]. Автор приходит к выводу о том, что рождение ополчения в значительной мере было продиктовано шоковым состоянием руководства страны и лично И.В. Сталина в связи с катастрофическими неудачами на фронте в первые дни войны. Это внесло сумбур и метания в процесс формирования дивизий народного ополчения.
Большую ценность для объяснения принципов функционирования советской власти в условиях войны представляют докторская диссертация и публикации В.Н. Данилова, посвященные местным чрезвычайным органам власти – городским комитетам обороны[38]. На большом документальном материале автор показывает процесс создания и боевого применения народного ополчения как децентрализованной военной организации, слабо связанной установками центральной власти. Инициативность региональных (областных и городских) властей (прежде всего городских комитетов обороны, учрежденных в октябре 1941 г.) в вопросах формирования местных военизированных частей, – очень любопытный сюжет, почти не дискутировавшийся до появления работ В.Н. Данилова.
В 2022 г. Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба РФ был издан труд, посвященный опыту комплектования отечественных вооруженных сил на добровольной основе[39]. Работа носит прикладной характер, поэтому внимание в ней сосредоточено на материале последних десятилетий, связанном с особенностями комплектования армии России военнослужащими контрактной службы. Небольшой очерк опыта добровольчества в период Гражданской и Великой Отечественной войн был подготовлен мной в соавторстве с А.В. Исаевым.
Большую популярность в современной исторической науке получили истребительные части. Они создавались в европейской части СССР почти повсеместно, что позволяет изучать их на местном архивном материале. Появилось немало диссертаций, защищенных в различных городах[40], статей, подготовленных на местном материале[41]. В этом ряду следует отметить работу Г.Д. Пилишвили, защитившего диссертацию[42] и опубликовавшего серию основанных на местном архивном материале содержательных статей и монографий, посвященных ополчению и истребительным батальонам, формировавшимся и действовавшим в областях Центрально-Черноземного региона в 1941–1944 гг.[43] Также отмечу концептуальную кандидатскую диссертацию Т.Д. Медведева, в которой он попытался обобщить опыт строительства и применения истребительных батальонов за весь период войны на всей территории страны, изучив материалы Центрального штаба истребительных батальонов, недавно выявленные в фонде Главного управления по борьбе с бандитизмом НКВД в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)[44]. В заслугу Медведеву нужно отнести уточнение по материалам НКВД масштабов строительства истребительных батальонов, в целом подтверждающие масштабы этого явления из литературы советского периода: по его сведениям, до конца июля 1943 г. было сформировано 1775 батальонов общей численностью 320 тыс. человек[45]. Еще около 204 тыс. человек набрано в течение 1944 г. для укомплектования вновь сформированных батальонов на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики[46].
Одним из источников пополнения рядов Красной армии добровольцами были женщины, которыми замещались должности прежде всего в частях боевого и тылового обеспечения. Гендерному аспекту истории Великой Отечественной войны и участию в ней женщин, в том числе на добровольной основе, посвящена обширная литература. В советский период выделялись работы В.С. Мурмацевой[47]. В постсоветский период выделяются монографии, диссертации и статьи С.Н. Полторака, Л.Д. Лактионовой, В.И. Петраковой, Н.Н. Пожидаевой, Г.Н. Каменевой и др.[48] В региональном аспекте гендерная тема весьма «диссертабельна»[49].
Также было защищено несколько диссертационных работ, в которых добровольчество рассматривалось как феномен русской и советской социальной традиции и культуры[50]. Весьма любопытна кандидатская диссертация Е.Н. Боле, одна из глав которой посвящена содержательному анализу источника, к которому очень часто прибегают как к безликому статистическому массиву, – заявлениям добровольцев (в данном случае – на примере одного региона).
В зарубежной литературе тема добровольчества в истории Красной армии затрагивалась вскользь в контакте рассмотрения других, более общих вопросов истории советских вооруженных сил[51], а также в работах по истории добровольческого комбатанства в военных конфликтов ХХ в.[52]
Оценивая историографию добровольчества, разработку темы нельзя признать удовлетворительной и полной. Особенно это относится к историографии Великой Отечественной войны. Советские исследования были скованы тисками идеологии, а тематика современных исследований атомизирована, попыток обобщений – мало. Литературу характеризует приоритетное внимание к истории боевой деятельности добровольческих формирований с акцентом на их героические страницы – и в этом отношении они попадают в наезженную колею, проложенную советской исторической наукой. В то время как институциональным чертам добровольчества не уделяется серьезного внимания.
Источниковую базу исследования составили опубликованные и неопубликованные документы, воспоминания участников событий, материалы прессы. По теме строительства советских вооруженных сил изданы десятки содержательных документальных сборников, материалы которых были использованы в данной книге. Во многих из них представлены нормативные и делопроизводственные (организационно-распорядительные, отчетные, информационно-статистические и иные документы), так или иначе освещающие тему добровольного комплектования войск Красной армии и формирования вне-армейских военизированных структур за период Гражданской войны[53], в межвоенный период[54] и в годы Великой Отечественной войны[55]. Особо следует отметить сборники документов, посвященные добровольческому движению в конкретных регионах и отдельных добровольческим формированиям[56].



