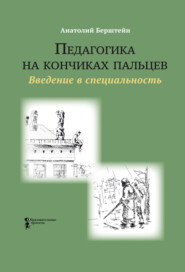скачать книгу бесплатно
Входишь в микрорайон школы. Непроизвольно выпрямляешься. Чувствуешь лёгкую бодрость. Вот идёт пигалица из 6«а»: «Здравствуйте» – «Здравствуй». О, появились как грибы: «Добрый день», «Здравствуйте», «Доброе утро»…
Из школьного двора глаз цепляется к «грибку» – курят… заметили… Хорошо.
Вот и коллеги: «Здравствуйте, здравствуйте»… «Привет». Хорошо.
Жаловаться начнут в учительской раздевалке. Дежурит 10«а». Господи, теперь и тебя будут заставлять вытирать ноги и тупо шутить о сменной обуви. Дорвались.
К директору зайду на большой перемене. Ага, наши пошли. «Шурик, на ключ. Открой класс, пусть ребята заходят». (Самому предстоит идти в учительскую. Новое поветрие: журнал у завуча надо брать. Лично. Как будто у меня в журнале что-нибудь можно сделать. Самоубийц нет.)
О-хо-хо… коллеги. «Приветствую. Деньги у меня собирает староста. Да, и с дежурством к нему… Нет, не такие самостоятельные. Просто я – ленивый».
Первый звонок – всем на урок. Сейчас начнут опаздывать: и те, и другие. Не ко мне, конечно. А я буду стоять в дверях собственного класса и ждать…
Все, слава Богу. Дверь закрыл. Подошёл к столу. Все встали. «Добрый день. Садитесь. Итак, сегодня мы с вами…»
Шесть уроков, как один: «Дело Дрейфуса», «Путешествие Колумба», «Реформы 60-х годов XIX века в России». И я не менее страстно, чем Золя, защищаю несчастного французского офицера, открываю все, что попадалось на пути великому испанскому мореплавателю, постигаю всю глубину ограниченности буржуазных реформ и всю непреодолимую притягательность либеральных идей.
И где моя домашняя утренняя усталость? Ведь сил не было совсем. И откуда им взяться? А тут шесть часов держал в напряжении эту непростую аудиторию. Лицедействовал «на все сто».
Как же это получается? А вот так, просто, по системе Станиславского.
Перерыв. Почувствовал лёгкую утомлённость в буфете. Всех, кто мешал наслаждаться школьной пищей и восполнять скудными калориями растраченную за день энергию, выгнал. Ем спокойно, но надо торопиться на факультатив (может, не придут?!) Слегка в сон потянуло. На третий этаж взошёл – как рукой сняло.
Кстати, вспомнил: сегодня в четыре старшеклассники позвали в баскетбол поиграть. Ладно, форму где-нибудь достану, и кроссовки кто-нибудь из ребят даст. Поиграем.
…Захожу в зал. Парни штангу тягают. Бог в помощь. А они мне: не хотите ли попробовать, или как? Слабо, историк? Конечно, слабо: она, наверное, за сорок килограмм весит. Я её и двумя руками не подниму. Но вызов брошен. И, конечно, принят. «Чего её тут поднимать. Если только одной рукой». «Ха-ха»…
«Ну-ну… Так. Расступитесь. И тихо!» Центр тяжести нащупал, подёргал. Сконцентрировался. «Ма-ма» – штанга взлетела чуть ли не к потолку. Несколько секунд подержал – «але-оп». Вот так-то, пацаны.
На следующий день, когда никого не было, зашёл в физкультурный зал. С трудом взял мою вчерашнюю штангу на грудь двумя руками и не до конца толкнул. А вчера как же? Просто: по системе Станиславского.
…Вечером дополз до дома. Сымитировал ужин. Включил телевизор. Тупо уставился. Уроки делать? Нет уж, только не сейчас. Может быть, утром?
На ночь книжечку почитал и спать. А утром… Спать хочется – сил нет. С трудом встаёшь…
Ну, дальше вы знаете: просто – по системе Станиславского.
Тест
У меня в школе был своеобразный тест. Я специально убирал мел и вызывал ученика к доске: то план ответа написать, то какую-нибудь хронологию или схему. А сам за столом сижу, урок веду, к доске не поворачиваюсь.
Так вот обозначились три манеры поведения ученика у доски без мела.
Один будет стоять, молчать, до тех пор, пока не обернёшься и не удивишься, почему не пишет. Вот тут он и скажет: «А мела нет».
Другой сам сразу заявит, что мела нет, но в интонации его будет претензия и требование обеспечить орудием производства…
А третий, увидев, что мела нет, заявит об этом уже около двери, на ходу, для формальности, испросив разрешения за ним сходить.
Три человека – три характера, три уровня самостоятельности.
Двуличие
После уроков ко мне зашли восьмиклассники и обратились со странной просьбой: «Скажите учителям, что мы вас не боимся». Я попытался отшутиться. Не получилось. Выяснилось: учительница на предыдущем уроке сказала, что они слушаются только того, кого боятся (например, меня). А остальным хамят. Поэтому они лицемеры и трусы.
Я сам нередко слышал упрёк своему классу: «При вас они – одни, а без вас – совсем другие». Имелось в виду, что при мне, классном руководителе, дети ведут себя хорошо, а когда меня нет – плохо.
Эх, как меня обижали и расстраивали эти «сочувственные доносы» коллег на детей. Как мне хотелось, чтобы мои ученики всегда «держали марку».
Я вёл с ними длинные разговоры – объяснял, упрекал, просил. Иногда прибегал к крайнему средству: «Что же вы меня подводите?»
Сейчас-то совершенно ясно, что дети и не думали обо мне, когда, пользуясь моим отсутствием, разговаривали во время экскурсий, съедали чужой завтрак в буфете, грызли семечки и сорили в школьном коридоре, плохо вели себя на неинтересных, скучных уроках. Причём здесь я?
Они живут своим особым, нормальным, миром. Это в основном мир эмоций, беззаботного, но одновременно драматического познания жизни. Мы же пытаемся навязать им свои правила. Они умеют подыгрывать, чтобы не обидеть нас, но – чаще – чтобы избежать неприятностей. Так вырастают дети, скрывающие свои истинные чувства, дети-приспособленцы.
Сколько раз можно принимать лояльность за воспитанность, имитацию – за общественную активность? Называть инфантильность – распущенностью, естественность – хамством, разборчивость – двуличием? Именно в двуличии обвинялись мои дети, превращавшиеся из вежливых со мной в грубых без меня, из работоспособных на моих уроках в ленивых на некоторых других, из великодушных и терпимых к моим резким замечаниям в нетерпимых к выговорам и упрёкам коллег.
«Как аукнется – так и откликнется» – каждый ребёнок развернётся к тебе той стороной, которой ты его к себе развернёшь. Одни говорят об ученике: пижон, трепло, пустышка; другие о нём же – живая душа, автор неплохих стихов.
Один из них говорил мне, что я всегда думал о нём настолько лучше, чем он есть, что было неудобно меня разочаровывать – приходилось быть лучше.
Удивительно сладострастны бывают учителя, выискивающие отрицательные стороны у своих учеников. Педагогическую аксиому – в детях надо видеть лучшее – до сих пор приходится доказывать.
Хотим мы или нет, но любая школа авторитарна – в том смысле, что весь процесс воспитания основан на авторитете учителя, его личности. И я не смею оскорблять своих учеников подозрениями в неискренности.
Их «двуличие» – мой успех. Их «двуличие» означает только лишь, что у них появилось ещё одно лицо. И я рад, что оно лучше.
Низенько-низенько
Помните армейский анекдот: солдат спрашивает у старшины: «Крокодилы умеют летать?» «Ты чё? Сдурел, что ли? – отвечает тот. – Крокодилы не летают». «А вот товарищ полковник говорит – летают», – не унимался солдат. «А-а, – протянул старшина, – ну может быть, может быть… Только низенько-низенько».
…1982 год. После литературы 10«б» ввалился ко мне на историю. Обычная толчея около учительского стола. Один из ребят спрашивает: «Правда, что у солженицыновского Ивана Денисовича мещанская философия: то пайку зажмёт, то закосит?..» «Да вы что? Кто вам такую ерунду сказал?» «Ольга Николаевна, только что, на уроке». «А-а… («низенько-низенько…»). Знаете, я думаю, что лучше один раз самим прочитать и иметь собственное мнение».
Спустя несколько месяцев в одном из анонимных писем сообщалось, что учитель истории настоятельно рекомендует читать романы Солженицына. Поистине, дыма без огня не бывает.
Мечта
Наверное, только учительская профессия позволяет почувствовать себя настоящим добрым волшебником. Как-то один десятиклассник эпохи перестройки признался, что мечтает о «драймартини». Для него этот загадочный, таинственный «драймартини» был настоящей мечтой его жизни. Я купил бутылку сухого мартини и угостил его. Так была осуществлена заветная мечта.
«Ну, а какая будет следующая?» – спросил я. Он помолчал и после небольшой паузы ответил: «Надо подумать…»
Собака Робеспьера
Я никогда не был доволен результатами выпускных экзаменов своих учеников. И поначалу даже не понимал, почему они так плохо отвечают. Ведь объясняю хорошо, дисциплина на уроках отличная, в глазах учеников неподдельный интерес, во всех рейтингах как учитель занимаю ведущие места. В чём же дело? Вскоре стало понятно: не хватает системной методики, чёткой программы. Но до них я так и не дорос: не успел.
Вообще-то до 91-го года преподавать историю было объективно трудновато. Про себя я называл свои уроки – историей с интонацией. Там намекнёшь, тут подмигнёшь, многозначительно промолчишь или проговоришь соответствующий текст с такой иронической интонацией, что пара-тройка глаз от писанины конспектов оторвётся и весело, понимающе на тебя взглянет. Что ж, как говаривал взводный, цель поражена.
Один умный, но несдержанный на язык (как и его учитель) старшеклассник как-то даже пошутил насчёт магнитофона, на который можно записать уроки и отослать куда следует… Эта шутка стоила нам дружеских отношений. Я не пускал его на факультатив, говоря, что не хочу собственными руками выращивать ещё одного штатного пропагандиста.
Тогда важно было не новую методику придумать, а побольше успеть сказать, заставить задуматься о чём-то важном, но недосказанном, услышать между фразами. И, естественно, заинтересовать историей (хотя чаще всего собственной персоной!).
Уроки приобретали характер театральной постановки. Ликвидировалась традиционная классная «рядность» и выстраивались новые мизансцены. Вместо наглядности появлялись декорации. Использовались музыка и костюмы.
Я позволял себе сопровождать рассказ о путешествии Колумба испанским аккомпанементом своей гитары, рассказывать о Пастернаке при свечах, включать фонограмму «Пугачёва» в исполнении Высоцкого и Есенина. Устраивать заседание дореволюционной Государственной Думы, которое больше походило на шумный израильский кнессет.
Но особенно ценным было проявление, иногда неожиданное, детского творчества. Так, в седьмом классе для тренировки устной речи я предложил записывать ответы на заданные вопросы дома на магнитофонную плёнку, а в школу приносить мне для прослушивания кассеты. Каково было моё удивление, когда почти каждая запись была снабжена весёлым комментарием, больше похожим на конферанс, или фонограммой. То под «тяжёлую музыку» шли в бой немецкие псы-рыцари, то рассказ о Куликовской битве прерывался «конским топотом», то вдруг в конце ответа вместо финальной точки слышался сатанинский смех Майкла Джексона из популярного видеоклипа.
Особенную радость доставил урок по Великой Французской революции (к слову сказать, программа восьмого класса всегда удручала: как можно было всерьёз с четырнадцатилетними советскими школьниками говорить о декабристах, Герцене, славянофилах, народовольцах, Французской революции, Пушкине и Гоголе?!). Итак, я попросил для итогового урока выбрать роли: Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Лафайет, Мирабо, Бриссо, Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст… И, по возможности, сделать для персонажа свой костюм. Или иметь при себе какую-нибудь отличительную деталь.
«Гроссмейстеры не баловали обилием дебютов»: у Людовика на голове была бумажная корона, Шарлотта Корде держала в руке перочинный ножик, а Марат натянул на голову теннисную повязку.
Поразил Робеспьер. Он поставил на стол перед собой маленькую фарфоровую фигурку какой-то собачонки забавной породы. И пояснил свой символ. Оказалось, собака – единственный друг Робеспьера, символ одиночества французского революционного диктатора.
В тот день, на том уроке, мне показалось, что я наконец-то чего-то добился. «Лёд тронулся»… Но оказалось, это – всего лишь одна из наших совместных театральных постановок. Актёры плохо знали свои роли и очень скоро после спектакля забыли их совсем.
Все последние годы урок стал для меня лишь процессуальным обязательством: менее эмоциональным, скупым на лирические отступления, с периодическими письменными заданиями для самостоятельной работы на пол-урока, а то и на весь урок.
Центр тяжести перенёсся на факультатив, потом политклуб, затем спецкурс. Но факультатив стал репетиторством, политклуб – аполитичным общением за чашкой чая, а спецкурс, на который я приглашал популярных гостей, клубом интересных встреч. Основная же учёба шла во время прогулок по Бульварному кольцу, в беседах о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, в общении у меня дома.
Говорят, что нужно раз пять повторить в разных формах информацию (к которой ученики не питают специального, самостоятельного интереса), чтобы её по-настоящему запомнили. С последним классом я смог пройти три круга – в 7-м, 10-м и после школы. А дальше, возможно, у всех участников закружилась голова.
И финал получился почти по Хармсу: «Извините, театр закрывается, нас всех тошнит».
Гений
Учитель биологии рассуждал о феномене гениальности. На первой парте сидел известный поклонник рок-н-ролла Валера Семага и как всегда напевал и наигрывал про себя какой-то очередной хит. Вдруг он произнёс: «Все гении, знаете ли, немножко того (он покрутил рукой у виска) – ку-ку».
Учитель прервался, пристально посмотрел на Семагу и с уверенностью сказал: «Валера, ты – гений!»
Дурная привычка
В детстве я почему-то жутко стеснялся слова «гибрид»: краснел, напрягался… Потом понял причину – по какой-то непростой ассоциации оно напоминало другое слово – «еврей».
…У входа в школу на большой дождевой бочке белой краской было крупно выведено: «Еврей – жопа». Это была первая школа, куда меня направили работать по распределению.
Первого сентября на уроке в четвёртом классе, назвав свои имя, отчество и фамилию, для верности решил записать их на доске. За спиной волной пронёсся шёпот: «Немец, немец, немец…» Возможно, я был первым «живым евреем», которого здесь увидели.
Бытовой антисемитизм отличается от других разновидностей тем, что люди и слова такого не знают. Они с детства привыкли: есть русское «жидиться» – означает «жадничать», а «еврей» – бранное, обидное, но цензурное слово.
В первой своей школе мне пришлось часто замещать уроки других предметников, и поэтому я, помимо «своей» истории, вёл ещё литературу, английский язык, а полгода – даже пение и физкультуру. Спортивного зала в школе не было, и занятия проводились бесхитростно: брали мяч и шли играть в футбол.
А там – как кто не так пас отдал – сразу крик: «Ну, что ты по-еврейски играешь!»; промазал по воротам – «Ты чего, еврей что ли?»
Попотели мы так часок однажды в футбол, сели на травку в кружок, дух переводим. – Ну что, ребята, хорошо поиграли? – Нормально, отлично… – Я вам компанию не испортил? – Нет, что вы. – Ничего у меня получается? – Здорово. Во! – кто-то поднимают большой палец вверх.
– А я – еврей, ребята, – неожиданно говорю я.
– ?!
– А при чём здесь… – ребята явно смутились моим заявлением.
– Как причём? Я – еврей. Следовательно, играю «по-еврейски». А это, как я понял, у вас значит – плохо.
– Да это ж мы просто так. Ну, присказка такая. Привычка…
– Дурная, – добавил я.
Вскоре в этой школе вместо привычной поговорки «хитрый, как сто евреев» стали говорить «хитрый, как сто китайцев». «Живого китайца» здесь пока ещё не видели.
Знакомая учительница объясняла классу: «Ребята, еврей – это такой человек». Ведь для большинства – это оскорбительный ярлык, который приклеивается к любому, независимо от его национальности.
В детской же среде национальный вопрос всегда имел чисто «прикладное» значение. То есть, если ты плохой человек, то вдобавок жид, кацап, хохол, чучмек. А если хороший, никого твоя национальность не волнует.
И сейчас фактически так… да не так. Подрались два восьмиклассника. Не подрались даже, так, потолкались, повозились. Повод у них был вполне конкретный – «сам дурак».
За одного вступились, другого обозвали. Когда я зашёл в учительскую, межнациональный конфликт был в разгаре. Вокруг свидетели, очевидцы, сторонники и противники. Одного дерущегося обвинили в антисемитизме. Он же, сняв очки и размазывая слёзы, кричал: «А какое он имеет право душить русского человека?!» Кто-то предложил в этот же вечер собрать чрезвычайное родительское собрание. О факте драки и её первоначальных мотивах никто не вспоминал. Школа стояла на грани межнациональной войны.
В тот раз пронесло. Непродуманные эмоциональные решения были отменены. К концу дня дети общались между собой вполне по-приятельски и беззаботно.
…Мы сидим у меня дома. Несколько ребят последнего выпуска. Белорус, украинец, русский, еврей. Как всегда, подшучиваем друг над другом, над другой национальностью. Просто, весело и уж совсем не обидно. Как смеются над собой в своих фильмах грузины, как не раздражает, а трогает душу самоирония героев бабелевских рассказов!
Нам хорошо в нашем «интернационале». Мы по-прежнему по-детски делим людей на хороших и плохих, умных и глупых, добрых и злых. А национальность?.. Это для паспорта.
Нужно ли лезть в душу?
Я считаю, что, хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому… В тех случаях, когда меня всё-таки заставляют браться за чужие дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в лёгкие и не в печень.
Мишель Монтень. «Опыты»
Профессионалы и дилетанты
Страну нашу, так же часто, как матом, обзывают полем чудес, страной дураков и дилетантов. Наступила эра компетентности, эпоха профессионалов, «век-волкодав». Даже анекдоты на тему редки. Вот один. Колония ёжиков быстро-быстро пробежалась по полю и остановилась на краю. Выходит главный ёж и восклицает: «Ёжики, мы вытоптали всё поле, мы подняли тучи пыли…» Все ёжики в едином порыве: «Да-а-а!» Главный ёжик: «Значит мы – кони!»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: