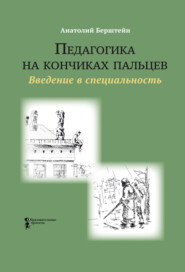скачать книгу бесплатно
Заявление так и осталось непереписанным, оно до сих пор хранится у меня. Рядом с ещё одним документом. Это характеристика, написанная классным руководителем Лужкаева и представленная мне, заместителю директора по воспитательной работе, как основание для постановки ученика на «индивидуально-административный» учёт. Вот её текст от первой до последней буквы: «Груб с учителями, курит. Не без способностей, но учиться не желает. Способен на любую гадость».
Личные отношения
«Ну какой же вы дурак, Васильев, – это что-то!» – рассмеялась учительница в ответ на какое-то замечание ученика. Тот тоже улыбнулся: нарочито смущённо, игриво, а по сути, так же весело. Неожиданно за него вступился приятель: «А почему вы его, собственно, оскорбляете!» – произнёс он запальчиво, и лёгкий румянец справедливости покрыл его щёки.
Учительница с удивлением повернулась в его сторону и подчёркнуто корректно, но чуть-чуть насмешливо произнесла: «Что вы, Поляков, вам бы я такого никогда не посмела сказать. А что касается Васильева, то он не обижается. Это наши с ним, понимаете, личные отношения». Поляков не понял, в чём, собственно, дело и что значат эти вежливые слова, обращённые к нему, но почувствовал, что обидели они его больше, чем «дурак» – Васильева, которого, к слову, вообще ничего не обидело.
Личные отношения… Именно они делают значимым не само слово, но интонацию, контекст сказанного.
Помню, как два друга, ребята лет по четырнадцать-пятнадцать, чинили мопед. Один из них отреагировал на неуклюжее действие товарища совершенно неожиданно, обозвав его: «карась». Почему «карась», непонятно. И фамилия «нерыбная», и вообще эта безобидная речная рыбка в списке оскорблений не значилась. Но получилось как-то грубо, слово сразу прилипло и стало дворовой кличкой. Изменить что-либо в подобной ситуации нельзя, но я решил смягчить слово и стал звать парня «Каасик» или «Карасик». В конце концов, именно в таком виде и прижилось. Совсем не обидно.
Когда ездили в Ленинград, Карасик был штатным фотографом. На каждой отпечатанной фотографии он вывел свой фирменный знак – силуэт маленькой рыбки.
…И всё же учителя злоупотребляют словами в личных отношениях. Они позволяют себе не задумываться. Им кажется, что изначальная беззлобность, даже наоборот, доброжелательность к своему воспитаннику делают их слова всего лишь мягким домашним сленгом. И действительно, большинство учеников воспринимают разные учительские словечки именно так. А многие даже как привилегию посвящённых, ибо кто же из нормальных учителей будет всерьёз обзывать. Но иногда гордые и неодомашненные ученики напоминают нам о чувстве меры, такта и справедливости.
Как-то привязалось ко мне и стало любимым словечко «пень». С разухабистой, свойской, ласковой интонацией раздавал я его направо и налево. Кое-кто, позаимствовав, взял даже на собственное вооружение: частенько можно было услышать в коридоре: «Ну, ты – пень…»
Не особо контролируя себя и не замечая настроение собеседника, однажды я по-хозяйски, любя, выговаривал что-то своему старшекласснику. На моё обычное замечание, что тот повёл себя «как пень» в какой-то ситуации, он неожиданно с упором возразил: «Я – не пень!» «Пень, пень», – миролюбиво подтвердил я. «Нет, не пень!» – упрямо, с вызовом, повторил он. «Пень», – не унимался я, начиная чувствовать потерю жанра. «Знаете, что?! Я же не говорю, кто Вы!..» – скороговоркой бросил парень и выскочил из школы.
Мы были в хороших, уважительных отношениях. Этот эпизод их не испортил. Я не обиделся на его «вольность». Ведь все было сугубо между нами, в наших личных отношениях. Но вот слово «пень» как-то стало забываться и исчезло из моего лексикона. Как, впрочем, и многие другие «домашние» слова.
Музыка строя
Я сочувственно кивал, слушая молодую учительницу. Уроки пения – притча во языцех. Рисование, труд и физкультура по драматизму не идут в сравнение с этим предметом.
«Нет, вы послушайте! Я поставила им Бетховена, «Лунную сонату». Как же они изгалялись! Кто-то нарочно мерзко имитировал игру инструментов, кто-то ржал, а один, знаете, глаза завёл и всю дорогу причитал: «Митька, брат помирает, ухи просит».
Было смешно. Я с трудом сдерживал улыбку, но учительнице было явно не до смеха. В учительской царил траурный марш Шопена.
Я посоветовал коллеге поговорить с ними о современной музыке.
Через несколько дней она рассказала, что из этой затеи ничего не вышло. Ребята принесли магнитофон и весь урок слушали какую-то, по словам учительницы, «какофонию» Разговаривать отказались, но и музыку свою, как ей показалось, не слушали. «Так, балдели весь урок»
В воздухе висел «хэви метал».
На следующий день, поднимаясь в актовый зал, я снова увидел эту учительницу. Она медленно, важно шла по лестнице. За ней, в затылок друг другу, опираясь на перила, поднимались на урок пения второклашки. Поднимались тихо, почти не разговаривая. Учительница на несколько секунд остановилась, строго посмотрела на свою колонну и чётко, по-армейски, скомандовала: «Прекратить разговоры. Строем идём. Я сказала – СТРОЕМ!» – прикрикнула она на какого-то растерянного мальчугана. Потом снова встала во главе своего «подразделения» и медленно, важно направилась в кабинет.
Я невольно остановился, заворожённый этой картиной. Ну, а потом продолжил своё движение в актовый зал… с левой ноги.
В моей голове отчётливо звучала музыка военного духового оркестра.
Сколько съел?..
Новым рубежом, победой в квалификационном состязании считал я тот момент, когда трудный подросток возьмёт из моих рук свою первую книгу.
Валера Огнев был вконец обленившимся четырнадцатилетним пареньком с миловидной хитроватой физиономией. В школе практически не учился. Хулиганил тоже лениво, в свободное от ничегонеделанья время.
В клуб пришёл случайно: старшие ребята позвали. Огнев производил впечатление неглупого малого, на которого, тем не менее, и в школе, и дома махнули рукой.
У нас в клубе он пробыл несколько месяцев. Возился с мотоциклом, выполнял отдельные мелкие поручения. С учёбой, курением и прочим я старался к нему не приставать. А приставал иногда с разговорами – о том, о сём. Валера был немногословен, но, казалось, слушал внимательно и понимал, о чём речь.
Наконец, я решился: «Валера, хочешь я тебе что-нибудь принесу почитать?» Он невразумительно пожал плечами. И я вцепился: «Попробуй, сколько сможешь. Вдруг понравится».
На следующий день я принёс ему сборник рассказов Джека Лондона. Напутствовал какими-то необязательными, но сильными словами и передал книжку. Через пару дней спрашиваю: «Ну, как?» «Ничего, – отвечает, – читать можно. Уже прочёл семь страниц».
Ещё через несколько дней я снова поинтересовался. Он прочёл уже страниц пятнадцать. Потом ещё двадцать, ещё… Сборник был худенький. И когда Огнев объявил мне, что прочёл уже сто сорок семь страниц, но больше пока не может (как какой-нибудь борщ или рисовую кашу), я не стал настаивать: сколько съел, столько съел.
Вечером всё же для интереса спросил, а что ему больше всего понравилось, какой, может быть, рассказ. И через несколько минут вдруг понял, что он и не открывал книгу.
Я не обиделся, даже посмеялся над ситуацией. А Огнев, не знаю – может просто срок вышел, через несколько дней ушёл из клуба.
Впрочем, была уже поздняя весна, и он все свободное, то есть все своё время, проводил, загорая, на прудах. К сожалению, без книги.
Двойки после «Грозы»
Посетил наконец урок литературы в своём классе. Давно собирался. Судя по оценкам в журнале, здесь не все ладилось. Хотелось посмотреть самому, понять, почему же ребята не жалуют Великую Русскую Литературу. Попросил разрешения, со звонком вошёл в класс и сел, как обычно, за последнюю парту в первом ряду от двери. Урок начался.
«Ребята, – сказала учительница, – сегодня мы ничего не будем записывать. Давайте просто поговорим, поспорим». (Несколько человек исподтишка зыркнули в мою сторону).
«Вы все, конечно, помните, что Добролюбов писал о героине пьесы Островского «Гроза». («Луч света в тёмном царстве», – мгновенно среагировал я про себя.) «Надеюсь, – продолжала учительница, – вы помните и высказывания Писарева. Если кто-то забыл, напомню»… Из довольно длинной цитаты я понял, что Писарев не очень жаловал «Грозу».
«Итак, – закончила вступительное слово учительница, – мы проведём свободную дискуссию. Те, кто разделяет точку зрения Добролюбова, садятся в третьем ряду, у окна. Кто за Писарева – в первом. Но если у кого-то есть своя, особая, независимая точка зрения, он должен пересесть во второй ряд».
Наступила пауза. По ленивым лицам ребят и отсутствию перемещений я понял, что энтузиазм у класса невелик. Я встал и решительно пересел за стол в центральном ряду, явно демонстрируя свою независимую позицию в будущем споре. Мой маневр вызвал оживление. Дети зашумели, зашевелились. Через минуту мизансцена была следующая: первый ряд пустой (не оценили Писарева), а два других заполнены, как говорится, до отказа. Стенка на стенку: Добролюбов против «независимых».
«Хорошо, – произнесла учительница, сохраняя ровный тон и бесстрастность арбитра. – Теперь выберем спикера, и пусть от группы прозвучит аргументированное мнение за ту или иную позицию».
Естественно, нашим спикером был единогласно избран я. Честно признаться, моя «независимая точка зрения» в первую очередь говорила об её отсутствии. Поэтому мне ничего не оставалось, как наброситься на Добролюбова и его сторонников с неконструктивной критикой. Я обвинил классика в молодости и непонимании любви (последнее, насколько известно, не соответствует истине), в излишней драматизации житейской ситуации, разглагольствовал о природе самоубийства.
В нашей перепалке прошло пол-урока. Молодая учительница по-прежнему сохраняла спокойствие. Иногда вмешивалась в наш оживлённый диалог, задавая те или иные уточняющие или развивающие беседу вопросы. Тем не менее, энергия разговора иссякала, и я решил задать вопрос учительнице – о её позиции в споре. Но, выбрав нейтралитет, она была непоколебима.
Кто-то заскучал, кто-то стал отвлекаться. Учительнице приходилось чаще задавать вопросы. Некоторые из них стали повторяться, некоторые произносились с едва заметным раздражением.
…Со звонком был подведён итог: «Дискуссия позволила нам ещё раз вспомнить эту прекрасную пьесу великого русского драматурга. Теперь, надеюсь, вам будет легче написать сочинение по «Грозе», где вы более полно изложите свои мысли».
Через некоторое время я вновь заглянул в журнал на страницу «Русская литература». За урок в колонку было аккуратно выведено двенадцать «двоек». «За что?» – поинтересовался я у ребят. «За четвёртый сон Веры Павловны». Похоже, «свободных дискуссий» больше не было.
Довыступалась…
Учительница биологии, женщина средних лет, недурной наружности, не сработалась с моим классом. Как-то в очередной раз вызвала меня с урока к себе.
Мой 8 «б» поднялся и умолк. Молчал и я, смотря на учительницу.
«Ну, что же вы заткнулись сразу?! – неожиданно произнесла она. – Чего больше не выступаете?!»
От неловкости я повернулся в сторону класса. И тут встретился глазами с мальчиком, который всегда любил за мной наблюдать. Поймав мой взгляд, он развёл руки в стороны, состроил сочувственную физиономию и печально вздохнул: «Ну вот видите…».
Я вышел из класса, не сказав не единого слова.
О русском языке
Я никогда не вёл специальной тетрадки, куда можно было записывать учительские и ученические перлы, ляпы, всё смешное и неуклюжее. Но кое-что запомнил…
На педсовете завуч рассказывала о своих впечатлениях от посещения уроков. Особенно ей понравилось на уроке пения, где «все дети пели ровным звуком».
Учительница математики, делая замечания какому-то непоседе, всегда говорила: «Ну-ка перевернись». Иногда её команду выполняли буквально, но она настойчиво вместо «повернись» повторяла: «Перевернись».
Один учитель физкультуры говорил: «Ширше ноги», другой: «И-таки далее, и-таки далее».
Но в ударениях всех перещеголяла учительница истории. Она не только говорила, что «положение развивающихся стран облЕгчилось», а «противоречия капитализма углУбились», она не только произносила по-большевистски «тЕррор», и у неё «формИровались деспОтии», её коронный перл был такой: «ДетИще мирового пролетариата».
Учительница литературы с фрикативным «г» в московской английской спецшколе любила по-матерински, не стесняясь заходить в мужской туалет и переводить английские ругательства, написанные на стенах. Её возмущали убогость слов и детский непатриотизм.
Учитель труда на первом же занятии по слесарному делу заявил, что «основным свойством всех металлов является то, что все металлы имеют свойства». С ним никто не спорил. В общем, «принциндентов» было многовато.
Охотник
Импозантная дама, учительница лет пятидесяти, вышла из школьного буфета, держа за обёрнутые в газету шеи двух куриц. В каждой руке по одной. Гордо так шла, торжественно.
Стоящий рядом со мной ученик с уважением протянул: «Охотник, смотрите – настоящий охотник».
Этикет
Когда меня спрашивали дети, зачем надо есть ножом и вилкой, не хлюпать чаем или говорить «спасибо», я отвечал, что это элементарная норма совместной жизни, норма уважения друг к другу. Притом крайне важная, так как воспитанность человека – не только внешний вид и хорошие манеры. Во многом она – основа сосуществования людей.
Только не надо доводить до абсурда и показухи. В один из дней пребывания в Москве школьников из далёкого Урала я повёл их, уставших и голодных, в первый попавшийся ресторан на улице Горького. Договорился с кухней о простом обеде: бульон, курица с рисом.
Когда подали первое, ребята растерялись. Бульон был в чашках, а внутри ещё лежало варёное яйцо. Как это нужно было есть? Все же – мы в ресторане! На нас смотрят!
Тогда по столикам прошла моя команда: есть как удобно, но с аппетитом.
В этот раз этикет был нарушен, но все были сыты и довольны. А вечером я спокойно рассказал и даже продемонстрировал, как надо справляться с таким блюдом.
Недоразумение
Директор школы подозвала парнишку лет двенадцати и попросила его показать мне микрорайон. «Ну что, – спросил он, – айда?» Возмущению моему не было предела. Как это так, мне уже исполнилось двадцать два года, через неделю я буду учительствовать в этой школе, а тут какой-то шкет позволяет себе разговаривать со мной на «ты». Мальчуган-татарин непонимающе пожал плечами и сказал: «Хорошо. Ну, айдате».
Письмо
Мне редко дети дарят цветы. Я привык. Даже имею этому своё объяснение. Но научился относиться спокойно к формальным знакам детского внимания не сразу. Успел попереживать…
23 февраля. Только-только прозвенел звонок на урок. Открывается дверь, и председатель родительского комитета моего класса торжественно вручает мне «поздравительную коробку». Я отказываюсь. Меня уговаривают. Я решительно отказываюсь. На меня обижаются. Обижаюсь я… Коробка остаётся лежать на подоконнике.
Класс притих, и я демонстративно сухо провёл урок.
Я ждал поздравлений. Пытался даже мысленно представить себе, что будут дарить и как, но думал, что это сделают ребята. Особенно обиделся на группу «особо приближённых к императору». «Уж они-то, – думал я, – должны были поздравить. Значит, ошибся. Значит, они чёрствы и равнодушны. И относятся ко мне просто потребительски».
И я «надулся». По-моему, даже перешёл на «вы». Сейчас смешно, а тогда было по-настоящему неприятно, и я здорово переживал.
И вот через несколько дней после этого «инцидента», во время перемены, один из моих учеников на ходу вручил мне большой зелёный конверт и убежал. В конверте было письмо. Приведу его полностью. Понимаю, что сложно поверить в такой «киношный» текст и тем более всерьёз отнестись к нему. Но всё было именно так.
«Здравствуй, Учитель!
Я никогда не писал к Тебе. Но сейчас я должен это сделать, прежде чем непонимание, проложившее первые кирпичи между нами, не воздвигло глухой стены! И тогда мы будем только перестукиваться, Учитель! Только перестукиваться…
Мы выросли, Учитель! И наш глаз стал порой зорче Твоего, наша рука – порой крепче Твоей! Мы становимся воинами, Учитель! И именно Ты сделал нас ими! И Тебе наша вера!
Но неужели Ты, Учитель, можешь усомниться в нас?!! Неужели Ты можешь обижаться на нашу поспешную юношескую невнимательность, на наше юношеское высокомерие?
Ты – наш Учитель!!! А когда Ты обращаешься к нам на Вы, мы думаем, что это действительно так!..
Мы слишком молоды, чтобы быть равными с Тобой, Учитель! Мы сами уже думаем об очень многом, но не лишай нас Юности, Учитель! Нам предстоит ещё очень долгий путь ошибок, прежде чем мы станем сами Мудрыми Учителями! Ты не так стар, Учитель, но убойся соблазна быть равным!
Поверь в Нас!!!
И да будет всё к лучшему!»
Письмо не оставило и следа от моей обиды. Именно тогда мой интерес к внешним знакам внимания стал ослабевать. Позже я понял, что и к подобным письмам надо относиться сдержанно и с должной иронией.
Но на выпускном вечере, получив до неприличия мало цветов (притом в основном от родителей), я снова расстроился.
Выпускной вечер – грустный праздник. Всю ночь я чувствовал себя не в своей тарелке и постоянно поглядывал на часы – когда же все кончится.
И вот – утро. Все стали расходиться по домам. Я зашёл за своими вещами в пустой класс. Машинально глянул на доску. На ней крупными буквами было написано:
«Опустел перрон.
Можно уходить.
И цветы теперь
Некому дарить».
Я вспомнил про письмо.
На следующий день мой класс почти в полном составе собрался у меня дома.
Нестандартно-типичные
Они торчали на перекрёстках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито меланхоличные. Жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трём популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне все время казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими, – может быть, потому, что каждый город и весь мир принадлежали им про праву. И они были полны для меня какой-то тёмной тайны. Ведь я сам когда-то простаивал вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы. И потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я так никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе – стоять, сплёвывать (подальше), гоготать (попротивнее) и ничего не делать. Наверное, в пятнадцать лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно: ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение или по крайней мере привлекать внимание. Все остальное представляется невыносимо скучным и занудным и в том числе, а может быть, и в особенности, те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздражённый мир взрослых.
Аркадий и Борис Стругацкие. «Хищные вещи века»
Сеанс психоанализа
Меня всегда тянуло к двум категориям детей: интеллигентным, но слабым духом, и хулиганам. Всё объясняется: в детстве я был интеллигентным, но дворовым мальчиком, занимавшимся спортом. Я сумел поставить себя и не стал изгоем. Но до седьмого класса пережил и два бойкота, и пару неприятных драк. Мои одноклассники ходили с шилом в кармане (которое чуть-чуть выглядывало наружу), стреляли по 10 копеек. А когда кое-кого даже посадили в тюрьму, родители срочно перевели меня в английскую спецшколу, где одноклассники только спросили: кто мои предки, сколько получают и люблю ли я «Битлз». В новой школе меня считали немного измайловским хулиганом, и это льстило.
Так вот: всегда хотелось помочь таким, каким был сам – чуть-чуть трусоватым, чуть-чуть нерешительным, быстро теряющимся перед наглым хамским напором.
Несмотря на, в целом, очень благополучное детство, мне всегда казалось, что я был чем-то обделён. Реальной жизнью, что ли. Я её не знал. Все было книжно, антикварно, призрачно. Как будто совсем рядом, но не со мной. Поэтому я немного похипповал в 9–10-м классах, немного поантисоветничал на первом курсе института, понародничал, добровольно уехав работать учителем на Урал.
Но – я никогда не был хулиганом, только водился с ними. (Помните в фильме «Звонят, откройте дверь»: «Я никогда не был первым пионером, но у нас во дворе был форпост»…). Вот и у меня во дворе были хулиганы. И потом, став учителем, мне всегда хотелось их получше узнать, понять, приобщиться через них к настоящей жизни. Но всегда было желание – перетащить их на свою сторону.