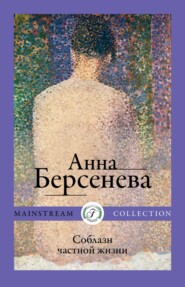скачать книгу бесплатно
Он появлялся во дворе редко – у него не много времени было для прогулок, – но метко. И неудивительно – он был душой двора, а это ведь и у каждого отдельного человека так: душа не может же быть видна постоянно, когда, например, человек жует свой повседневный бутерброд или мчится за утренним автобусом. Но уж если она у него есть, то никуда и не денется.
Митя возвращался с занятий, держа в руке футляр со скрипкой, и вполне мог не заметить Жозефину, спрятавшуюся под покатой подвальной крышей возле его подъезда. Тем более что уже смеркалось, а после своих уроков Митя вообще мало что замечал. Но он все-таки услышал шмыганье и тихое иканье, доносившееся из-под крыши, тут же заглянул туда и извлек на белый свет Жозефину.
– Чего ревем? – спросил Митя, присев перед ней на корточки и с усмешкой вглядываясь в опухшее личико.
Ему было в это время четырнадцать, а он уже заканчивал Центральную музыкальную школу и, конечно, имел право насмешливо относиться к сопливой мелочи.
– Ничего-о! – прорыдала Жозефина.
– Ничего – не бывает. Скажи, скажи, может, я тоже с тобой пореву! Ну, что молчишь?
Жозефина подняла на взрослого мальчика голубые зареванные глаза и, проникнувшись к нему неожиданным доверием, сообщила:
– У меня плохое имя!
– Плохое? – удивился Митя. – Думаешь, бывают плохие имена? И как же тебя зовут?
– Жо… Жозефина… – выговорила она с опаской.
Митя не выдержал и тоже улыбнулся.
– Да-а, вот это фантазия! Ну и что? Разве ты не можешь жить со своим именем?
– Я могу. – Глаза Жозефины снова стали наливаться слезами. – Я могу, но они же не могут! Они меня дразнят, придумывают другие имена всякие, и к тому же я из деревни.
– Из деревни – ничего, – возразил Митя. – Ломоносов тоже был из деревни. А как тебя мама дома называет?
– Так и называет – Жозефина. Ей нравится.
– А внимания ни на кого не обращать ты разве не можешь, тем более, маме нравится?
Он разговаривал с ней так серьезно, несмотря на то что был совсем взрослый, что Жозефина прониклась к нему полным доверием.
– Не могу, – вздохнула она. – Я бы отсюда насовсем уехала обратно в Обоянь, но бабушка умерла, и мама сказала, что я теперь буду жить здесь с ней всегда.
– Не уезжай в Обоянь, – попросил Митя. – Ты мне нравишься. А им скажи… Скажи, что тебя зовут… Какое-нибудь простое имя… Да, скажи, что тебя зовут Зося, вот и все! Зося красивое имя, по-моему, можно считать его уменьшительным от Жозефины. И заодно можешь сказать, что твоя прабабушка была королева и враги ее сослали в эту Обоянь. Чтобы они заткнулись насчет деревни, если уж тебя это так удручает. А если не заткнутся, можешь сказать, что я их убью. Меня зовут Митя Гладышев, я живу в седьмой квартире, и они меня знают. Поняла, Зося?
И он исчез в темноте подъезда, словно растворился под звон дождевых капель о крышу подвала.
Лера обо всем этом узнала от него позже, в то время она болела свинкой и целый месяц не показывалась во дворе.
Но самое удивительное, что так и получилось, как он сказал! Как только Митя дал ей имя, Зося словно заново появилась в их дворе, и никто, ни один человек, как по мановению волшебной палочки, не обидел ее больше. Ей даже не пришлось говорить про королеву, всем и так понравилось ее новое имя, и ее наконец признали здесь своей.
Жилье Михальцовых находилось прямо над квартирой, в которой Лера жила с мамой. Когда-то на чердаке не было даже телефона, поэтому с важными известиями звонили на Лерин номер, и она вызывала Зоську, стуча по батарее чугунным бюстиком Пушкина. Во время одного из таких разговоров как раз и выяснилось, что та ездит в Турцию за товаром, который потом продает в Лужниках, и Лера решила поехать с ней, и жизнь ее переменилась после этого так же разительно, как жизнь целой страны.
Давно уже и чердак был не чердаком, а, можно считать, пентхаусом, и Зоська была не робкая девчонка с белобрысой тощей косичкой, и рынок в Лужниках забылся напрочь, но все, что происходило тогда, по-прежнему было для Леры значимо.
Только Митя переменил ее жизнь больше, чем те годы. Только он.
– Так почему ты не удивляешься? – повторила Лера.
– Потому что у всех нормальных людей жизнь определяется гормональным фоном, – ответила Зоська. – А у тебя – наоборот.
Она приоткрыла ярко-оранжевый чайник, стоящий на стеклянном кухонном столе, и чихнула от терпкого имбирного запаха. Чайник был сделан в виде апельсина со срезанной верхушкой-крышечкой. Зоська любила всяческие оригинальные штучки и привозила их отовсюду. И не надоедало же ей! Лера давно уже перестала испытывать восторг перед милыми мелочами такого рода, а привозить их домой ей и в голову не приходило. Митя их не замечал, а главное, гладышевская квартира не требовала и даже не допускала появления лишних подробностей. Все здесь находилось в неизменной, давным-давно установившейся гармонии – книги в шкафах, этюды Коровина и Левитана, подаренные авторами Митиному деду, профессору Московской консерватории… Когда-то Лера казалась себе слишком вульгарным пятном на этом строгом фоне. То ощущение давно прошло, но апельсиновый чайник в гладышевской квартире не появился. Все, что она покупала туда, было просто, функционально и могло служить столетиями.
– Как это по-французски называется? – сказала Зоська, наливая Лере чай.
– Что – это? – не поняла она.
– Ну, сущность твоя. Тебе кто-то когда-то сказал, ты смеялась еще.
– А! Force de la nature.
– Ага, – кивнула Зоська. – Сила природы, да. Ты с этим родилась, с этим и помрешь, видимо. Что анализы и подтверждают.
– Оптимистичная ты моя! – засмеялась Лера.
Как бы там ни было, следовало признать бесспорность швейцарских выводов. Организм ее сбалансирован, а значит, то, что она приблизительно называла тревогой, что внушало ей растерянность и почти страх, просто не следует принимать всерьез.
С этой мыслью Лера и поехала вместе с Митей на его рождественский концерт в Баден-Бадене. Накануне он дирижировал Моцарта у себя в Ливневском театре, впереди был новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Ей стоило усилий освободиться на это время от всех дел, и странно было бы портить себе настроение какой-то смутной ерундой.
Лера с детства знала, что Митя талантливый, это знал весь их двор, а потому само собой разумелось, что это знают все, то есть вообще все – весь мир. Она училась, влюблялась, бросала учебу, разворачивала свою жизнь на сто восемьдесят градусов, работала с самозабвением, без которого не могла что-либо делать всерьез, выходила замуж, разводилась, рожала, влюблялась снова или, вернее, впадала в какой-то тяжелый сердечный морок, проходила из-за этого через сокрушительный и опасный распад, тонула в отчаянии – и во время всех этих бурных событий собственной жизни знала, что где-то идет Митина жизнь, в которой он дирижирует в Ла Скала, и играет на скрипке в Альберт-холле, и ставит оперу в Лионе, и гастролирует в Америке. Все это казалось естественным, как его звонки ей со всего света, это просто не могло быть иначе. Их бросило друг к другу так неожиданно, как вообще-то не бывает после длящейся с детства дружбы, и с той минуты мир для Леры сузился – иметь значение стало только то, что связано с Митей. Он вернулся в Москву ради своего театра, потому и ее жизнь надолго ограничилась пространством Ливневского парка. Это пространство оказалось насыщено смыслом так же, как Митина скрипка, как все, к чему он прикасался; выходить за его пределы не хотелось. И только спустя несколько лет, когда театр не просто приобрел физические очертания, то есть была починена крыша и установлена решетка вокруг расчищенного парка, но и репертуар, и труппа пришли к полноценной повседневности, без которой не может существовать театр, – только тогда Митя стал постепенно возвращаться в обычный свой жизненный ритм, в свой мир.
И только тогда Лера по-настоящему осознала, к какому миру он принадлежит.
Это был мир небожителей, она не могла назвать его иначе. И не потому, что там мерцали тусклым золотом театральные ложи и пламенели скрипки Страдивари, но потому, что в нем шла напряженная жизнь самого высокого, самого незаурядного толка. Она была помещена в жесткие рамки размеренности, эта жизнь, иначе не мог быть поддерживаем тот ее уровень, который в Лерином понимании соответствовал вершине Эвереста. На этом уровне не то что захватывало дух – там вообще невозможно было дышать обычными, не приспособленными к разреженному воздуху легкими.
Когда она поделилась с Митей этими своими соображениями, тот хохотал так, что выступили слезы.
– Я у тебя, получается, шерпа, – сказал он. – Интересно ты ко мне относишься!
Это было в первые их общие годы, относилась она к Мите тогда как к метеориту, ворвавшемуся в ее жизнь, поэтому сравнение с шерпой не показалось ей подходящим. И даже когда прошел острый сердечный трепет, в котором невозможно жить изо дня в день, его эверестовый мир по-прежнему вызывал у Леры что-то вроде растерянности: неужели он существует?
Этот мир принял ее с доброжелательной непринужденностью, и все-таки каждая встреча с ним вызывала у нее опаску. Ее жизнь, в общем-то незамысловатая, а главное, абсолютно частная, никому кроме близких не интересная, вдруг сделалась частью какой-то другой, слишком значимой социальной жизни. Это произошло так неожиданно и казалось ей таким несоразмерным тому, как сама она себя внутренне ощущала, что первое время приводило в растерянность, причем в таких действиях, которые вообще-то не казались ей сложными.
Какое платье надеть? А туфли? А кольца? Лера помнила, как в первый год ее замужества, когда Митя как раз дирижировал новогодним концертом в Вене, все это заботило ее так, словно она должна была ехать туда в качестве растерянной дебютантки, которая не знает, что ей надеть на бал.
Теперь, через двадцать лет, ей казалось, что круг замкнулся.
Митя снова дирижирует Венским новогодним концертом, перед этим играет с Берлинским филармоническим оркестром в Баден-Бадене, она снова едет с ним…
Но переменилась она совершенно, и перемена эта ничуть ее не радует.
Для того чтобы выглядеть в рождественской сказке соответствующим образом, Лере не нужна была ни фея, ни тыква. Когда-то она с вдохновенным удовольствием поняла, что талантливые люди доверху наполнили материальный мир красивыми и необычными вещами. Украшения оказались одной из самых увлекательных его составляющих – свой интерес к ним Лера называла сорочьим.
Тот интерес давно прошел, но драгоценности остались, тем более что и Митя их ей дарил, объясняя, что это очень облегчает ему жизнь: можно не ломать голову над тем, чего ему все равно не понять, а без размышлений выбирать к любому празднику какой-нибудь блестящий металлический предмет.
К концерту в Баден-Бадене Лера взяла с собой платье цвета полыни и одну из самых прелестных своих брошек – лопнувший гороховый стручок, в бледно-зеленой эмали которого виднелись изумрудные горошины.
А что сердце не отзывается на все это как на сказку, ну так ведь детство прошло, и молодость прошла тоже, и все это так и должно быть, наверное.
Глава 5
Что не менялось в Лериной жизни с годами, это любовь к тем местам, которые несколько пафосно, но верно называют священными камнями Европы.
Лихтентальская аллея была покрыта не камнями, а мелким гравием и песком, но к ней это определение относилась точно. Лерино воображение подчинялось в этом смысле самым что ни на есть предсказуемым законам, благодаря которым и процветает туризм. Идя по аллее, она представляла, как шел по ней Тургенев и мелькал у него в воображении сумрачный, дымный облик роковой красавицы, о которой он потом и написал здесь же в Баден-Бадене.
Она еще вчера об этом подумала, когда сразу по приезде вышла на балкон, с которого Лихтентальская аллея видна была вся, и праздничные огоньки, сверкающие вдоль берега Ооса, и темные шварцвальдские вершины вдали над городом видны были тоже. Из-за близости этих гор вечером стало холодно, и ветки деревьев на аллее заблестели как стеклянные, и далеко был слышен рождественский звон колоколов.
– У тебя появилась потребность опереться на что-то кроме личного опыта, – сказал Митя, когда после ужина уселись в каминном зале и Лера сообщила ему об этом своем впечатлении.
В Баден-Баден приехали в рождественский Сочельник, поэтому сидели у камина одни. Трудно было представить немцев или французов, которые решили бы провести этот вечер вне дома. Гостей из каких-нибудь далеких стран тоже не было в зале.
Может, Наполеон с Александром Первым здесь и поссорились перед войной? Нет, это на балу вроде было. Накануне любой поездки Лера читала обо всем, что предстояло увидеть, и об этом отеле прочитала тоже, оттого и про императорскую ссору знала.
На круглом столике перед камином стоял перевернутый бокал, под ним лежала алая роза с зелеными листочками. Сверху, на круглом основании тонкой ножки бокала, стояла зажженная свеча, тоже алая, с едва заметным зеленым ободком.
Дрова искрились с рождественской классичностью, белое рейнское сияло в бокалах, и если подступал извне мрак, то эти искры и это сияние ограждали от него надежнее, чем каменные стены.
– Что значит опереться? – не поняла Лера.
От рейнвейна в голове у нее стоял легкий туман, поэтому, наверное, ее мысли не успевали за Митиными.
– Тебе стали нужны места, где есть общее для всех прошлое, – сказал он. – И оно имеет неизменные формы, на которые может опереться личный опыт. Видимо, для тебя пришло время, когда без этого не обойтись.
– А для тебя не пришло?
Его слова почему-то уязвили.
– Наверное, нет.
Он смотрел на огонь, и пламя не отражалось, а бесследно исчезало в его глазах.
– Почему?
– Мне проще, Лер. Мне не надо этого искать.
Конечно, не надо. Все уверены, что талант хрупок, уязвим и нуждается в поддержке, но по отношению к Мите это не так. В него все опоры от рождения встроены, и что обычного человека может вдребезги разнести, от него отлетает, как дождевые капли от алмаза, и никакая поддержка извне ему не нужна, Лера много раз в этом убеждалась.
С некоторых пор его стоицизм стал ее почти пугать. Как будто есть в этом для нее что-то новое. Или действительно не было в нем раньше того, что она с раздражающей саму себя неточностью называет стоицизмом? Лера не понимала.
Да и многое ли она понимает из того, что происходит у него внутри?.. Не было у нее ответа на этот вопрос, и она старалась не задавать его себе.
Однако Митя оказался прав: теперь, утром, идя по Лихтентальской аллее, Лера в самом деле чувствовала себя так, будто ее под руку ведут. Даже хмурый Тургенев – очень уж мрачно выглядел его памятник! – казался ей поддержкой.
Митя с утра уехал на репетицию, и она вышла прогуляться одна.
Лера была в Баден-Бадене десять лет назад. Как раз когда открылся Фестшпильхаус и Митя впервые давал в нем концерт. Теперь ей хотелось вспомнить этот город. Вернее, тогдашние свои чувства вспомнить.
Она пыталась их поймать, свои прежние чувства, но это ей не удавалось. Может быть, потому что Германия не относилась к тем странам, которые она ощущала близкими себе. Такой страной была Италия – попадая туда, Лера чувствовала себя как птица, которую подбросили в воздух.
Но все-таки многослойная европейская жизнь была ею любима вся, потому и простота, ясность Баден-Бадена казалась если не близкой, то все же необходимой.
Лера прошла мимо Курхауса, мимо Оперного театра. Мелькнула мысль, что надо будет спросить у Мити, не думал ли он привезти сюда какую-нибудь из ливневских опер. Мариинка часто привозит, она специально осведомилась перед поездкой.
Но размышлять сейчас о делах совсем не хотелось.
Она свернула на узкую улицу, образованную фахверковыми домами с рождественскими венками на дверях, и вышла на маленькую площадь.
В первый день после Сочельника все здесь словно вымерло. Ярмарки закрылись, кафе и магазины тоже, людей на улицах почти не было, и Лере казалось, что она бродит по зачарованному царству из сказки про Спящую Красавицу.
Переливались огоньки на живых елках, переливались разными цветами – фиолетовым, золотым, серебряным – елки не живые, а искусно сделанные, фантастическими россыпями сверкали над домами шары, будто присланные сюда инопланетянами, цепочки веселых фонариков тянулись над мостовыми и увивали деревья. После предновогодней Москвы трудно было удивиться роскоши праздничного антуража, но здесь была не роскошь, а такое тихое очарование, которым хотелось любоваться не удивления ради, а лишь потому, что это наполняет покоем глаза и сердце.
«И как только Гоголь мог „Тараса Бульбу“ в Баден-Бадене писать? – подумала Лера. – Казачьи зверства последнее, о чем здесь хочется знать».
Как можно среди здешней гармоничной красоты дойти до такого лихорадочного умоисступления, чтобы проигрывать в казино обручальное кольцо молодой жены, она, правда, не могла понять тоже. Ну так она и не Достоевский – ее мир устроен логично, внятно и в общем незамысловато.
Вчерашний вечерний разговор не шел у нее из ума. Память у Леры была хорошая, и не только в том смысле, что она быстро усваивала информацию – скорее, у нее была память на сильные впечатления. Они и вставали перед глазами, то ли высветляя, то ли скрывая своей пестротой что-то для нее важное.
Лере казалось, Митя уже говорил однажды о формах жизни, но говорил в каком-то другом смысле, чем вчера. Ей хотелось поймать тот прошлый смысл так же, как прошлые свои чувства. Но так же, как те чувства, он ускользал, терялся во множестве подробностей, которые не померкли за тридцать лет.
Ее дрожь пробирала, когда она даже мысленно называла такие цифры. И только яркость, с которой восставали в памяти отделенные тридцатью годами события, успокаивала ее.
Тогда она поехала с Зоськой в Стамбул за товаром. Звучало, может, обыденно, но Лере было двадцать пять лет, это была ее первая поездка за границу, первая в жизни, и она, конечно, ждала ее с такой счастливой наивностью, с какой только и могла ждать домашняя девочка, дочка любящей мамы, жена милого и спокойного Кости, аспирантка профессора Ратманова, не предполагающая, что человека можно догола раздеть на таможне, чтобы поискать запрещенные сто долларов…
Все в той поездке оказалось для нее разительным, и не потому, что она устала бегать десять часов подряд по стамбульским лавкам, закупая мохер, трусы и ночные рубашки. Лера и двадцать часов могла бегать, и огромные мешки, похожие на черные блестящие капли, таскала без устали.
Дело было в другом – она почувствовала, что влилась в какой-то очень сильный поток, и в нем действуют совсем другие законы, чем те, которые она всю свою жизнь считала незыблемыми. Какой она станет в этом потоке, было ей непонятно, и не хотелось быть никакой. Она словно выдиралась из собственной кожи, с мучительным треском меняясь каждую минуту. Поездка, предпринятая неожиданно и легко, оборачивалась чем-то бесповоротным.
Все три дня стамбульской суеты, пока были у нее какие-то занятия – торговаться, покупать, таскать, упаковывать, – Лера чувствовала даже некоторый душевный подъем. Но в день отъезда, когда смотрела на глянцевую гору мешков, странное чувство овладело ею…
Впервые она столкнулась с чем-то подобным в пионерском лагере, куда мама отправила ее после пятого класса, «чтобы ребенок подышал свежим воздухом». Тогда, в девчачьей палате на пятнадцать коек, ей вдруг показалось, что другого мира – в котором она родилась и росла, который любила, – просто не существует. Нет их дома на Неглинной, нет ее школы на Сретенке, и книг нет, которые она украдкой читала до утра, и вообще ничего нет, а есть только галдящие девчонки, на которых она почему-то должна быть похожа, и есть ходьба строем, и речевки, и утренние линейки… Тогда, вечером в лагерной палате, ей стало так тоскливо, что она полночи прорыдала под одеялом и наутро решила сбежать отсюда во что бы то ни стало. Слишком уж невыносимо было лишиться своего мира – ей казалось, что это произошло безвозвратно.
«Но ведь привыкла ты тогда, – уговаривала себя Лера. – Привыкла, и тебе даже понравилось. За ягодами можно было бегать чуть свет, на дискотеку вечером, и Сережа из второго отряда приглашал танцевать только тебя…»
Но мысль о том, что вот точно так же привыкнет она и к тому, что сидит на мешках в вестибюле гостиницы «Гянжлик», чувствуя себя животным в зоопарке, была для нее невыносима. Даже унижение таможенного обыска не могло с этим сравниться. Там по крайней мере все происходило один на один и довольно быстро. А здесь минуты казались часами, а часы вечностью…
Автобус должен был прийти только вечером. Зоська побежала в город, чтобы купить еще лифчиков на оставшуюся мелочь и таким образом выжать из поездки все что возможно, а Лера сидела на их общих мешках, которые надо было сторожить, и смотрела перед собой пустыми глазами.
Вестибюль был полон. Люди входили и выходили, направлялись в ресторан, болтали и смеялись на ходу, что-то жевали, звонили куда-то с телефонов-автоматов, просто сидели в мягких креслах и пили кофе.
Их группа, колоритная как табор, привлекала всеобщее внимание: не так уж много было тогда в Стамбуле русских челноков. Турки останавливались, показывали на них пальцами, хохотали. И, конечно, призывно подмигивали женщинам, приглашая пойти с ними, похлопывали себя по карманам, обещая деньги.
«Сейчас кто-нибудь булочку бросит, – уныло думала Лера. – Скорее бы Зоська пришла, и я бы убежала отсюда куда глаза глядят, ничего бы не покупала больше, походила бы хоть немного по городу просто так, к морю пошла бы».
И, главное, не сидела бы здесь, в этом вестибюле, на проклятых мешках, под насмешливыми и масляными взглядами, не слышала бы этого хохота…
Чтобы хоть немного отвлечься, выключиться из происходящего, Лера стала вспоминать что в голову приходило, что подсказывало мечущееся сознание. Например, простые песенки под гитару. Она всегда могла их слушать и петь до бесконечности, и сейчас, прижав ладони к ушам, чтобы ничего не слышать извне, нарочно старалась вспомнить свои любимые.