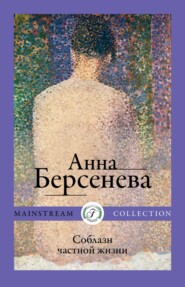скачать книгу бесплатно
– Оперный режиссер, – ответил Митя.
– Не слышала про него.
Лера была директором Ливневского театра уже двадцать лет. Она считала себя отчасти и завхозом, и психологом, и от общения с чиновниками избавляла Митю по мере своих возможностей, хотя эта мера становилась все меньше с каждым не годом уже, а месяцем. Но всем, что касалось музыки, Митя занимался сам, и его место в музыкальном мире было таково, что Лерина помощь для ориентации в этом мире ему не требовалась. Так что вполне могла она не слышать про оперного режиссера Гордея Пестерева.
– Молодой он, вот и не слышала, – сказал Митя. – Я его пригласил к себе на репетицию в Берлин, и в аэропорту мы с ним потом поговорили.
– Так это ты из-за него спать не поехал, когда рейс отменили! – возмутилась Лера.
– У меня не было бы другого времени для разговора. – Митя опять улыбнулся ее возмущению. – А так мы все успели обсудить.
– Это что же?
– Что можно обсуждать с режиссером? Он хочет поставить «Скрипку Ротшильда». Я хочу, чтобы он поставил ее у меня.
– А разве есть такая опера? – удивилась Лера. – Или он ее напишет?
– Он не композитор, но опера такая есть. Начал ее Флейшман, закончил Шостакович. Там сильная была история, почитай, тебе интересно будет.
«„Скрипка Ротшильда“ – это ничего, – подумала Лера. – Ну что там может быть… такого? Чехов и Чехов».
Она устыдилась своей мелкой мысли, но что поделать – после скандала в Новосибирске из-за оперы про Христа, после травли режиссера и увольнения директора, да еще с волчьим билетом, не следовало удивляться ничему, в том числе и опасливым мыслям в собственной голове.
Митя стоял в эркере, шторы не были задернуты, стеклянная стена у него за спиной была подсвечена парковым фонарем. Серебрилась его седина, силуэт был вписан в ломаный чертеж древесных веток. Во всем этом была тревога.
– Я почитаю, – завороженно глядя на этот тревожный чертеж, сказала Лера. – А ты поезжай домой, Мить, а? Поспи все-таки.
– Поедем вместе?
Вопросительная интонация в его голосе показалась ей настороженной.
– Конечно, – поспешно ответила она, хотя минуту назад вовсе не собиралась домой. С чего бы? У Мити-то репетиция окончена и спектаклей по понедельникам нет, а у нее понедельник обычный рабочий день.
Но отчего эта поспешность? Почему ей требуется усилие для того, что всегда получалось само собою, и тревога ее больше не унимается, когда она видит Митю?
– Я привез вино, – сказал он. – Мозельское, ты любишь. Еда есть или закажем?
– Есть, конечно, есть, – с той же поспешностью ответила Лера. – Роза эчпочмаки собиралась сделать. Только они к мозельскому не очень.
– Ничего, сойдет.
Он сделал шаг от окна, вырвался из тревожного росчерка веток. Лера погасила свет, и они вышли из кабинета.
Глава 2
«И подушка ее горяча, и короток томительный сон…»
Эти слова замерцали в ее сознании прежде, чем она проснулась. Потом мерцание сгустилось в нечто внятное, и Лера поняла, что подушка, на которой она лежит, действительно горячая, потому что в комнате жарко, и что слова, которые Митя когда-то напевал по утрам, вспомнились потому, что она слышит едва различимый звук его скрипки. Даже не звук слышит, а чувствует колебание в матрасных пружинах.
Если он был дома, то начинал заниматься, когда она еще спала. Впрочем, и не дома тоже – Митя всегда вставал рано и начинал день со скрипки. Однажды сказал, что это должно казаться ей однообразным, и она обиделась. Ей не казались однообразными его занятия, хотя она ничего в них не понимала и по-прежнему, как двадцать лет назад, могла распознать на слух только самое простое, что и все распознают – Сороковую симфонию Моцарта, например, или Шестую Чайковского, да и то не с любого места. Лера знала о своей музыкальной бездарности, но Митину скрипку могла слушать бесконечно, даже если бы он стал играть «Чижика-пыжика».
Утро, отзвуки его скрипки в ее теле, раздвинутые шторы, и двор как ладонь, и окна в доме напротив знакомы как собственные пальцы, и даже холод, вливающийся через приоткрытую оконную створку, кажется знакомым тоже.
Окно маминой квартиры, в которой жила теперь Аленка, смотрело через двор прямо в окна Гладышевых и тоже было приоткрыто. Значит, Аленка дома. Хотя ничего это не значит вообще-то. Могла и уйти с утра или даже со вчерашнего вечера, а окно оставить как есть; штормовые предупреждения – последнее, к чему она склонна прислушиваться.
В доме напротив прошло все Лерино детство, вся ее юность, из него всматривалась она в окна Митиной квартиры – не осветятся ли изнутри шторы, не вернулся ли он из бесконечного своего странствия по белу свету?
Какую огромную они прожили жизнь!..
Лера поежилась. Итоговые мысли не очень-то своевременны даже для шестого десятка. Она открыла окно нараспашку, посмотрела вниз. Двор, образованный старинными доходными домами, в детстве был для нее отдельным миром, в котором умещалось все, что нужно человеку для жизни – друзья, приключения, тайны, обыденность, счастье и обещание счастья. Мир в целом потускнел в ее глазах за прошедшие после детства годы, но двор – ни чуточки. Арка, которая вела в него с Неглинной, была теперь забрана коваными воротами, и раздрай внешнего мира во двор поэтому не проникал, чему Лера была очень рада. На пресловутом шестом десятке внешний мир уже хочется не познавать, а дозировать.
«Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий, презеленый красный шар».
Да, так все когда-то и было. Сохраним же эти воспоминания в их нетронутой прелести. Лера закрыла окно.
В кухне звуки скрипки не только чувствовались, но и были слышны из-за двери кабинета. Готовя завтрак, она даже угадала, что Митя играет – Моцарта. То есть не угадала, конечно, а просто вспомнила, что он играл это в Берлине. Или в Нью-Йорке? Нет, там он не играл, а «Героической симфонией» Бетховена дирижировал.
«Мне надо ездить с ним, – подумала Лера. – И знать бы не знала тревоги этой дурацкой».
То, что она называла дурацкой тревогой, возможно, следовало бы назвать паническими атаками, но поскольку причины их были рациональны, Лера не придавала им значения. Если тебе постоянно приходится преодолевать трудности, если ты боишься, что в один прекрасный день не сумеешь их преодолеть, если от этого впадаешь в панику, не можешь уснуть и тебе кажется, что сердце твое сжимает черная-черная рука, то не стоит воспринимать это более серьезно, чем ты воспринимал подобные страхи в спальне детского сада, с которым выезжал в пять лет на дачу, и уж точно не стоит кому бы то ни было на свои страхи жаловаться. Утро настанет, солнце заглянет в окно, и черная-черная рука сделается тем, чем является – фантомом твоего воображения, не более.
А ездить с Митей повсюду… Они знали друг друга с детства, и с концертными выступлениями Митя ездил с детства, и никогда, хоть и по разным причинам, не было возможно, чтобы Лера ездила с ним каждый раз. То есть детские-то годы не стоило в этом смысле вспоминать – у каждого из них жизнь была тогда своя. Но и когда жизнь у них стала общая, ничего в смысле поездок не изменилось, потому что в то же самое время общим стал Ливневский театр, и обязанности каждого по отношению к нему и друг к другу требовали раздельности, житейской разделенности – такой вот парадокс. Если бы Митя занимался повседневными делами театра, то о своей музыкальной жизни, жестко расписанной по часам и по странам, ему пришлось бы забыть. А если бы Лера ездила с ним вместе по этим часам и странам, то им обоим пришлось бы забыть о Ливневском театре, потому что его просто не стало бы, и очень скоро.
Так что предаваться бессмысленным размышлениям не стоит, тем более что за двадцать лет ко всему привыкаешь, а уж к собственному образу жизни привыкаешь точно, иначе он был бы у тебя другим.
Звуки затихли, и через минуту Митя вошел в кухню. Лера включила соковыжималку и поцеловала его уже под электрический шум. Завтрак у них всегда был одинаковый, неизменный, как скрипка по утрам: яйца всмятку, ветчина, сыр, овсянка, мед, сок, кофе. Митя умел не искать разнообразия ни в чем внешнем. Лера этого не умела, но еда не была той сферой, в которой она стала бы искать разнообразия.
– Что сегодня делаешь? – спросил Митя, когда соковыжималка выключилась.
– Ничего особенного. – Она пожала плечами. – Еду в Ливнево. Поедем вместе?
– Я – позже. Должен оркестровку доделать.
Лера должна была доделать крышу над Зеленым театром – ливневским парковым павильоном, в котором летом давались концерты. То есть не лично она должна была ее доделывать, конечно, но осознание себя завхозом пришло ей вчера в голову не совсем случайно: три дня назад ей пришлось расстаться с подрядчиком, и вовремя она это сделала, то есть вовремя удалось остановить его убогие махинации со стройматериалами. Результатом ее предусмотрительности стало то, что окончанием ремонта Зеленого театра, то есть как раз крышей, ей теперь придется заниматься лично. Однако такой результат все-таки лучше, чем любой другой из уже намечавшихся.
Знать это в подробностях Мите было не обязательно. Не то чтобы Лера считала, что ее муж не от мира сего – иногда, а в последнее время все чаще, ей казалось, что это было бы совсем не плохо, – просто в его знании про крышу не было практической необходимости.
Она разложила овсянку по тарелкам, и, пока Митя разливал сок по стаканам, включила айпад. Выпрыгнула новость: в Новосибирской области раздавили бульдозером три тонны польских яблок. Новостью это, впрочем, называть уже не стоило. Три дня назад Лера зашла в бухгалтерию и услышала, как женщины рассуждают, что раздавленный бульдозерами литовский сыр лучше было бы раздать по детским домам. Ей до сих пор стыдно было вспоминать, как она орала главбуху Лилии Петровне, что говорить о лучших вариантах могут в таком положении только рабы.
Но разговаривать об этом с Митей не хотелось. Не только из-за стыда за ту свою вспышку – главным образом ей не хотелось, чтобы он вообще об этом думал. К чему приведут его мысли?
Лера открыла итальянский сайт музыкальных новостей, но настроения читать не было. На работе потом почитает. Она следила, кто, что и где поставил в музыкальных театрах, и особенно внимательно за тем, какая на эти постановки была реакция – публики, критики, музыкантов. Это было важно, потому что как раз за реакцией, в том числе и на свою работу, Митя следил не пристально, вернее, если не было существенных мнений, то не следил вовсе. А Лера следила за всем, и от нее он об этом узнавал.
Она закрыла айпад и посмотрела на Митю. Он держал в руке стакан с соком и думал. С годами он стал похож на музыканта с картины Леонардо да Винчи. Странно, что именно с годами, леонардовский музыкант ведь молод.
Когда Митя дирижировал в Ла Скала и Лера приехала к нему, то специально пошла в Пинакотеку, чтобы проверить свое впечатление. Да, сходство действительно оказалось разительное, и черт лица, и, главное, взгляда. Сердце замирало от его неразгадываемости, охватывали страх и счастье, и непонятно было, что сильнее, и казалось, что музыкант видит бездну, и пугала ускользающая красота его лица. Лера долго стояла перед портретом, не обращая внимания на толпящихся людей, но Мите об этом не рассказала. Как раз из-за страха, который не могла рационально объяснить даже себе самой.
О чем он думает, что слышит, глядя вот так куда-то? И куда?
– Мить… – позвала она. – Ты есть будешь?..
– Да.
Он быстро съел кашу, снял с плиты блестящий итальянский кофейник, налил Лере и себе кофе. Сходство с леонардовским музыкантом не исчезло, но Лера перестала об этом думать.
Когда она шла через ливневский парк, ей казалось, что падающие с деревьев капли заключают в себе музыку, но она никогда ее не услышит.
Потом день ее покатился обычной колеей, и она погрузилась в дела, за которыми не было места тревоге.
Глава 3
Работа Ливневского театра была устроена сложным образом. Шли собственные спектакли и наравне с ними спектакли резидентов – сторонних трупп, которые Митя приглашал с их собственными постановками. Но оркестр при этом всегда был его.
Многомудрый администратор Коля Мингалев с важным видом называл такое устройство цветущей сложностью, но и хлопот с этим цветением было немало.
– Хоть бы раз Дмитрий Сергеевич кого попроще пригласил! – заметил однажды Коля. – А то этим, которых он зовет, вечно инфраструктуру Гранд Опера подай.
Лере тоже хотелось, чтобы в Ливневский театр можно было приглашать любую труппу. Но и без оглядки на это она требовала, чтобы ни один человек в театре не считал, будто от него ничего не зависит. При воспоминании о том, что произошло, когда спустя рукава сработал однажды монтировщик декораций и гибели артистов удалось избежать только чудом, ее до сих пор бросало в холодный пот. За сценическим оборудованием она следила, кажется, не менее пристально, чем инженер. Впрочем, за посещаемостью и продажами билетов следила тоже, и за работой попечительского совета, и за нормативной базой – за ней отдельно, каждый ее рабочий день начинался с изучения новых регулирующих документов, согласно которым вместе с главбухом, юристом и администратором приходилось изобретать новые способы существования в том мертвеющем мире, который все более отчетливо вырисовывался вокруг.
Всем этим Лера и занялась сразу после крыши Зеленого театра. Это было привычно и унимало тревогу, которая все больше раздражала ее, потому что она понимала, что природа этой тревоги – всего лишь гормоны, и сумятица их связана только с возрастом, никаких других причин нет.
Она позвонила Розе, та сообщила, что Дмитрий Сергеевич уже уехал в театр, что к Аленке она заходила, обедать ее звала, но та не пошла, а Дмитрий Сергеевич, да, поел, но только бульон куриный.
– Он сегодня спектаклем дирижирует, – сказала Лера.
– Я и говорю, что за еда для него, бульон. – По телефону было слышно, что Роза поморщилась. – Кошке и то мало. А он же вечером, считай, вагоны разгружать будет, силы нужны.
Лера улыбнулась. Роза вела их с Митей хозяйство все двадцать лет, которые это хозяйство существовало, но до сих пор стремилась накормить Митю посытнее, хотя давно уж можно было понять, что это не нужно. Правда, Лера и сама не очень понимала, из какого источника питается его энергия – не мистическая какая-нибудь, а просто физическая энергия, физиология, – так что странно было бы требовать такого понимания от Розы с ее простым и прагматичным взглядом на людей и явления.
– А Лену приструни, – добавила Роза. – Что за моду взяла не обедать? И нервная стала, и без шапки пошла, я в окно видела.
Аленку она вырастила не в меньшей мере, чем Лера, а то и в большей, может, потому что была со своей обожаемой девочкой постоянно, не отвлекаясь ни на театр, ни на гастрольные поездки, ни на мужа. Мужчин Роза презирала, Митя был абсолютным в этом смысле исключением, к нему она относилась как к богу.
– Я ей скажу, – кивнула Лера.
И как в воду глядела: она еще разговаривала с Розой, когда дверь открылась, Аленка вошла в кабинет и сказала с порога:
– Я должна уйти.
– Куда? – удивилась Лера.
Сообщать ей о своих передвижениях дочь вообще-то была не обязана ни из родственных, ни из служебных соображений. Она не состояла в штате театра, Митя привлекал ее как пианиста не часто, в основном у нее была собственная исполнительская жизнь.
– Никуда. – Аленка дернула плечом, локон зацепился за пуговицу на блузке, она поморщилась, стала его отцеплять, но только еще больше запутала. – В никуда! – сердито воскликнула она.
– Что за глупости? – рассердилась и Лера. – Витя Витей, но надо же и в руках себя держать! Работа-то при чем? Митя, конечно, сам с тобой поговорит, но и я считаю…
– Не надо ему со мной говорить!
В ее голосе зазвенели злые слезы. Лера опешила. Никогда Аленка не говорила о Мите таким тоном. Если для Розы он был богом по непонятной причине, то в Аленкином случае причина как раз была очень понятна: какой была бы ее жизнь, если бы Митя не разглядел в ней музыкальные способности еще в детстве и не направил бы их правильным образом?
– Ты что, Лена? – растерянно проговорила Лера.
– То! Всё, что со мной теперь… – Она снова схватилась за локон, с силой выдернула его из-под пуговицы, проговорила лихорадочно: – Витя!.. Да при чем здесь это вообще?!
Слезы брызнули у нее из глаз. Именно брызнули – никогда Лера такого не видела. Как будто боль от запутавшихся волос оказалась невыносимой.
Но дело не в этом, конечно.
– Закрой дверь, пожалуйста, – стараясь, чтобы в голосе не слышалось ни отзвука беспокойства, сказала Лера.
– А тебя, как всегда, только видимость волнует! Не переживай, там никого нет.
И по отношению к ней никогда не было у дочери такого раздражения. Или отчаяния, или горя?.. Лера подошла к двери и прикрыла ее, мельком отметив, что помощницы Ани в приемной действительно нет.
– Сядь, – сказала Лера. – И объясни, пожалуйста, что случилось. Внятно объясни. Чтобы даже я поняла, – не удержавшись от иронического тона, добавила она.
Аленка на ее тон немедленно отреагировала:
– В твоем понимании не случилось ничего.
– А в твоем?
Лера на ее реакцию отвечать не стала.
Аленка молчала. Ее молчание постепенно заполняло все пространство кабинета и Леру изнутри заполняло тоже. Непонятно было, что делать с этим тягостным молчанием.
– Я – посредственность, – наконец проговорила Аленка. – Случилось, ты говоришь? Это не случилось. Это всегда так было. Это моя жизнь. Только это, больше ничего. Посредственность. А не Витенька, не отношения выстраивать, вся вот эта ерунда, которая так тебя волнует.
Лера едва сдержала вздох облегчения. Вон что, оказывается! Обычные сетования человека, занятого таким неочевидным делом, как музыка. Единственным, от кого она никогда ничего подобного не слышала, был Митя, а от всех других людей, окружавших ее в театре, ламентации такого рода ей приходилось выслушивать с постоянством, достойным лучшего применения.
– И почему же ты именно сейчас так решила? – спросила она. – Раз, говоришь, это всегда было.
– Когда-нибудь перестаешь себе врать. Вот, перестала.
Лера вздрогнула. Все-таки дочь похожа на нее, хотя внешнего сходства никакого. Думает так же и даже говорит теми же словами.
Жалость кольнула ее острым лезвием.
– Лена, – сказала она, – ну неужели вам в консерватории этого не объясняли? Еще в ЦМШ должны были, по-моему. Через это же все музыканты проходят, это нормально, сомневаться в себе, и ты…
– Не говори пошлостей, пожалуйста. – Аленка поморщилась. – Я их слышала тысячу раз. И от Егорова, и… Не надо мне больше ваших разговоров! У меня есть глаза, я сама все вижу.
– Что же ты, интересно, видишь?
Жалость к дочери сменилась раздражением на нее. Какой стандартный эгоцентризм! И кто кого должен в пошлости упрекать?
– Таких пианистов, как я, тысячи, – сказала Аленка. – Все конкурсы нами переполнены. А при этом…