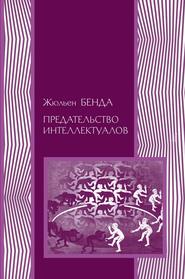
Полная версия:
Предательство интеллектуалов
Ревнитель справедливости, требующей неприкосновенности человеческой личности потому лишь, что это личность человеческая, может рассматривать человека только отвлеченно. Ясно, что конкретный индивидуум, как пишет Ренан, есть в большей или меньшей степени человек и, стало быть, с большим или меньшим основанием пользуется правами «человека». Воздавать каждому «подобающее ему» (cuique suum*), если для этого надо принимать во внимание неравенство, которым отметила людей природа, – значит поступать с людьми в полном противоречии с нашей идеей о справедливости. Со всех точек зрения, идея справедливости предполагает отвлечение.
Справедливость – это ценность неутилитарная и, следовательно, в высшей степени духовная, по причине, которой большинство ее поборников не видят и за разглашение которой они будут на меня негодовать. Справедливость – школа вечности, а не принцип действия; ценность статичная, а не динамичная, регулятивная, а не созидательная. Все, что делается в исторической практике, делается несправедливо. Великие нации, которые, за редким исключением, являются лучшими, сформировались потому, что некоторые входящие в них сейчас народы когда‐то через насилие возобладали над другими, а у себя установили, более или менее открыто, авторитарные, т. е. несправедливые, режимы. Это относится и к нациям, поставившим перед собой цель обеспечить членам национального сообщества максимум справедливости, в том числе и к российской нации, которая сегодня обещает ее с наибольшим пафосом. То же самое я скажу о свободе, ценности, также в высшей степени духовной, поскольку она составляет условие личности[118]; ее приверженцы – преимущественно демократы – не желают признавать, что свобода есть ценность всецело отрицательная, никогда еще ничего не построившая, и все те, кто что‐либо основал на этой земле, включая режимы, призванные дать людям свободу, начинали с отказа от нее. Так же и разум есть принцип критики и понимания, тогда как способность созидания неоспоримо принадлежит к иррациональному[119]. Но непрактический характер идеалов разума – одна из тех истин, которых современный интеллектуал решительно не приемлет, обнаруживая этим незнание своей собственной сущности.
Подлинно духовное отношение к разуму, мне думается, определено в этом моем заявлении[120]: «Я отказываю в почетной мантии духу изобретательства, созидательному таланту, интеллектуальному завоеванию; я ее присваиваю, под именем разума, способности всегда самотождественной, применительно к которой слово „прогресс“ не имеет смысла. Ничто не вызывает большей антипатии у моих современников; все почести они отдают (перелистайте Ницше, Бергсона, Сореля) дерзостной мысли, насмехающейся над разумом и ведающей тревожное волнение героя, а не безмятежность священника[121]. Я же убежден, что, почитая разум в его положении верховного судии и в его неплодоносной вечности[122], я буду следовать традиции интеллектуалов и останусь верен их предназначению в этом мире. Я не вижу, чтобы Сократ, великие теологи XIII века, отшельники из Пор‐Рояля* и вообще церковь восхваляли изобретательность и сопутствующее ей дионисийское начало. Культ Прометея – это культ мирской, и в нем есть свое величие. Но я стою на том, что нужны люди, которые служат иному».
Что касается истины, то она духовно‐интеллектуальная ценность лишь постольку, поскольку ее почитают независимо от последствий, благих или пагубных, к которым она могла бы привести. Позиция интеллектуала тут четко определена в словах одного из французских интеллектуалов, произнесенных в такое время, когда ставить истину превыше земных интересов было для гражданина его страны особенной заслугой: «Тот, кто из каких бы то ни было соображений – патриотических, политических, религиозных и даже моральных – позволяет себе хоть немного подправлять истину, должен быть исключен из братства ученых» (Gaston Pâris. Leçon d’ouverture au Collège de France, décembre 1870). Это значит, что интеллектуал по самой сущности своей отвергает почти все патриотические, политические, религиозные и морализаторские воззвания, которые, имея практическую цель, почти все принуждены искажать истину.
Точно так же наука есть духовно‐интеллектуальная ценность лишь постольку, поскольку она ищет истину ради нее самой, вне каких‐либо практических соображений. Это означает, что те ученые, которые сегодня кричат о своем стремлении заставить науку служить миру между народами и каются в том, что их научные открытия способствовали взаимному истреблению людей[123], в качестве таковых отнюдь не являются интеллектуалами, равно как и те писатели, которые проводят конгрессы под девизом «Мысль – на службу миру», – ведь мысль должна быть только мыслью, а не прочить себя «на службу» чему бы то ни было[124]. Эти ученые, видимо, забыли, что нравственная ценность науки не в результатах ее, которые могут содействовать худшему аморализму, а в ее методе, именно потому, что она побуждает упражнять разум, пренебрегая всяким практическим интересом.
Королларии*I. Художественная деятельность, в качестве сущностно бескорыстной, по природе своей чуждой, как и наука, исканию материального или нравственного блага человечества[125], есть духовно‐интеллектуальная ценность.
II. Те, кто презирает блага мира сего и почитает определенные духовно‐интеллектуальные ценности, особенно справедливость, с намерением совершить «свое спасение», – не интеллектуалы[126].
III. Мир между народами, будучи благом исключительно практическим, не составляет духовно‐интеллектуальной ценности. Мир был бы такой ценностью, будь он, как говорит Спиноза, не просто отсутствием войны, а плодом усилий человеческой воли, стремящейся подчинить себе национальный эгоизм (non privatio belli, sed virtus quae de fortitudine animi oritur**).
C. Духовно‐интеллектуальные ценности рациональныПод этим понимается, что духовно‐интеллектуальными я считаю только те ценности, принятие которых предполагает работу разума; такие же состояния, как восторженность, мужество, вера, любовь к людям, жажда жизни, постольку, поскольку они основываются лишь на чувстве, не входят в идеал интеллектуала.
Из этой моей позиции следует, что те, кто обесценивает подобные состояния, – интеллектуалы в высочайшей степени.
Платон и Спиноза осуждают восторженность, безрассудную отвагу, чисто сентиментальное человеколюбие[127]; Эпикур и Лукреций принижают страстную привязанность к жизни – первый утверждает, что «любовь к человеку другого пола дается людям не богами» (когда она возникает), второй пишет:
Quae mala nos subigit vitai tanta cupido?*[128]
Сюда можно было бы присоединить и христианство, осуждающее «гордость житейскую», если бы христианство не обещало ее, умноженную во сто крат, в мире ином.
Надо ли говорить, что столь распространенное в наши дни даже у людей духовных превознесение молодежи единственно по той причине, что она воплощает «силу и жизнь», противоположно духовно‐интеллектуальному отношению? Восхищаясь молодежью, поскольку она – «будущее», восхищаются человеком, находящимся во времени, тогда как истинные человеческие ценности времени неподвластны; иными словами, принимают динамичный, развивающийся, а не статичный идеал.
Вот еще одно следствие моей позиции, для некоторых очень важное: страстная приверженность к духовно‐интеллектуальным ценностям – к справедливости, истине, разуму (страстная приверженность к разуму есть нечто совсем иное, чем разум), – будучи страстью, не принадлежит к ценностям интеллектуала. И однако, по глубоко верному замечанию философа[129], именно страстное влечение к благу, а не идея блага изменит мир. Тут я повторюсь. Задача интеллектуала – не изменить мир, а остаться верным идеалу, сохранение которого представляется мне необходимым для нравственности человечества (точнее даже, для его эстетики). Понятно, что если род человеческий отныне не хочет знать ничего, кроме ревностного служения практическим целям, то ему дела нет до этого идеала и, более того, он должен усматривать в нем, как уяснили себе некоторые его вожди[130], одного из своих злейших врагов.
Предательство интеллектуалов
Предисловие к первому изданию
Толстой рассказывает, что, когда он в бытность свою офицером увидел на маршировке, как один из его товарищей ударил солдата, выбившегося из строя, он стал пенять ему: «Не стыдно ли вам так обращаться с одним из себе подобных? Разве вы не читали Евангелия?» На что тот ответил: «А вы разве не читали воинского устава?»*
Именно такой ответ неизменно будет получать человек духовный, пытающийся управлять мирским. Ответ, на мой взгляд, очень мудрый. Тем, кто ведет людей завоевывать земное, нет дела до справедливости и милосердия[131].
Но мне представляется важным, что существуют люди, которые, даже если их подвергают насмешкам, влекут себе подобных к иным религиям, нежели культ мирского. Правда, те, кто взяли на себя эту роль и кого я называю интеллектуалами, теперь уже не только не исполняют своей миссии, но и, более того, играют роль прямо противоположную. Большинство моралистов, к которым прислушивалась Европа в последние пятьдесят лет, в особенности французские писатели, призывают людей пренебречь Евангелием и читать воинские уставы.
На мой взгляд, это новое учение тем более значимо, что оно обращено к человечеству, которое по собственному почину, и притом с небывалой решимостью, утверждается в мирском, преходящем. Это я и намереваюсь показать в первую очередь.
I. Совершенствование политических страстей в современную эпоху. Время политики
Рассмотрим так называемые политические страсти, восстанавливающие людей друг против друга. Главные из них – расовые, классовые и национальные страсти. Даже те, кто свято верит в неизбежный прогресс человеческого рода, точнее, в непременное поступательное движение человечества к миру и любви, не могут не признать, что на протяжении последнего столетия страсти эти с каждым днем проявляются все более ярко, достигая – в некоторых принципиально важных отношениях – невиданной в истории степени совершенства.
Начать с того, что они затрагивают стольких людей, скольких никогда прежде не затрагивали. Когда мы изучаем, к примеру, гражданские войны, сотрясавшие Францию в XVI веке или в конце XVIII века, нас удивляет немногочисленность тех, кого они волновали до глубины души; вплоть до XIX века история изобилует долгими европейскими войнами, оставившими подавляющее большинство населения абсолютно безразличным, если не считать причиненного ими материального ущерба[132]. Сегодня же мы можем сказать, что в Европе нет почти ни одного человека, не затронутого, или не мнящего себя затронутым, расовой, или классовой, или национальной страстью, а чаще – всеми тремя. Похоже, такой же прогресс отмечается и в Новом Свете, да и на Востоке огромные людские массы, казалось бы, исключенные из этих движений, пробуждаются к социальной ненависти, к партийной борьбе, усваивают национальный дух как стремление принижать других людей. Политические страсти достигли в наши дни несвойственной им прежде всеобщности.
Далее, они достигли слитности. Ясно, что благодаря прогрессу в коммуникации между людьми, а еще больше – благодаря крепнущему духу объединения, носители одной и той же политической ненависти, еще сто лет назад слабо чувствовавшие поддержку единомышленников и ненавидевшие общего врага, так сказать, порознь, сегодня образуют сплоченную пассионарную (passionnelle) массу, каждый элемент которой сознает себя связанным с бесчисленным множеством других. Эта перемена особенно разительна в рабочем классе: еще в середине XIX века рабочие были разобщены в своей враждебности к противоположному классу и вели рассеянные «боевые действия» (например, устраивали забастовки в пределах одного города, одной корпорации), а сегодня они облекли всю Европу густой пеленой ненависти. Можно утверждать, что эта слитность будет возрастать и впредь, так как воля к объединению – одна из глубинных характеристик современного мира, который все более явственно становится миром лиг, «союзов», «ассоциаций», даже в тех областях, где этого меньше всего ожидали (например, в области мысли). Надо ли говорить, как оживляется страсть индивидуума, знающего, что она сливается с тысячами подобных ей страстей? Добавим, что индивидуум превращает множество людей, членом которого он себя сознает, в некую таинственную личность и делает ее объектом религиозного поклонения. Такое поклонение, по сути, есть не что иное, как обожествление его собственной страсти, отчего страсть заметно умножается в силе.
К этой слитности, которую я бы назвал поверхностной, прибавляется, если можно так выразиться, сущностная слитность. Составляя более сплоченную пассионарную массу, носители одной и той же политической страсти образуют тем самым более однородную пассионарную массу, где исчезают индивидуальные способы чувствования, где пламя, охватившее всех, постепенно принимает единую для всех окраску. Нельзя не удивляться тому, как мало варьируется страсть, проявляемая, например во Франции, врагами демократического строя (я говорю о массе, а не о верхах), как мало разнится она у тех, от кого исходит. Удивительно, что эта монолитная ненависть фактически не подрывается личными, особенными манерами ненавидеть (можно сказать, она сама подверглась «демократическому нивелированию»); что среди эмоций, называемых антисемитизмом, антиклерикализмом, социализмом, несмотря на множественные формы этой последней страсти, каждая обнаруживает больше единообразия, нежели сто лет назад; что отдающие дань каждой из них нынче как никогда все говорят в один голос[133]. Политические страсти, похоже, поднялись до дисциплины, именно в качестве страстей; они словно подчиняются приказу, кáк надлежит чувствовать. Нетрудно понять, сколько силы им это прибавляет.
Возрастание однородности страстей сопровождается, для некоторых из них, возрастанием определенности. Известно, к примеру, что социализм, который в первые десятилетия прошлого века был у множества его адептов страстью могучей, но смутной, сегодня конкретизировал свои цели, точно установил в расположении противника место, куда он должен нанести удар (монополии), уяснил, какое движение он должен организовать, чтобы этого достичь; такой же прогресс наблюдается и в антидемократизме. Известно и то, что ненависть, приобретая бóльшую определенность, становится гораздо сильнее.
Политические страсти совершенствуются и вот в каком отношении. До недавнего времени эти страсти бушевали в истории не всегда; приступы чередовались с передышками, периоды подъема – с периодами спада. Что касается расовых и классовых страстей, то здесь за многочисленными грозными вспышками следовали долгие годы спокойствия или, по крайней мере, снижения активности. Между нациями годами длились войны, но не ненависть, если она существовала. Сегодня же достаточно регулярно просматривать любую утреннюю газету, чтобы убедиться, что без тех или иных проявлений политической ненависти не проходит и дня. В лучшем случае ненадолго умолкает одна ненависть и на первый план выступает другая, требующая, чтобы ей отдавались безраздельно; настал час «священных союзов», которые возвещают отнюдь не о царстве любви, а только об общей ненависти, временно одерживающей верх над частной ненавистью каждой из сторон. Политические страсти приобрели в наши дни чрезвычайно редкий в сфере чувств атрибут: постоянство.
Обратим внимание читателя на то движение, вследствие которого разного рода частная ненависть отступает перед более общей, черпающей из сознания своей общности новую религию – религию самообожествления, – а значит, и новую силу. Наверное, немногие уловили в таком движении существенную черту XIX века. Это не только век, в течение которого дважды, в Германии и в Италии, исконная ненависть малых государств поглощалась великой национальной страстью, но и век (точнее – конец XVIII века), когда во Франции вражда между придворным и провинциальным дворянством утихла, побежденная пароксизмом ненависти того и другого ко всему, что «не благородно»; вражда дворянства шпаги и дворянства мантии была потушена тем же порывом; вражда верхушки и низов духовенства потонула в их общей ненависти к поборникам секуляризации; вражда клира и дворянства уступила место ненависти к третьему сословию; наконец, в наши дни взаимная ненависть трех сословий сменилась единой ненавистью собственников к рабочему классу. Конденсация политических страстей, их переход в небольшое количество простейших видов ненависти, имеющих глубочайшие корни в человеческом сердце, – достижение современной эпохи[134].
Я думаю, немалый прогресс в области политических страстей заключен и в том, как они соотносятся сегодня с другими страстями захваченного ими человека. У буржуа старорежимной Франции политические страсти хотя и занимали гораздо большее место, чем обычно полагают, но все же уступали страсти к наживе, жажде наслаждений, семейным чувствам, позывам тщеславия. О нынешнем же его собрате можно сказать по меньшей мере, что, поселяясь в его сердце, политические страсти обитают там наравне с прочими. Сопоставим, например, ничтожное место, занимаемое политическими страстями у французского буржуа, представленного в фаблио, в средневековой комедии, в романах Скаррона, Фюретьера, Шарля Сореля[135], с тем местом, какое они занимают у того же буржуа, изображенного Бальзаком, Стендалем, Анатолем Франсом, Абелем Эрманом, Полем Бурже (разумеется, я не говорю о кризисных временах, таких как период Католической лиги или Фронды, когда политические страсти, коль скоро они завладевали индивидуумом, владели им целиком, без остатка). Сегодня мы можем даже, не погрешив против истины, сказать, что политические страсти у этого буржуа покорили себе большинство других страстей и подогнали их под свою мерку. Известно, что в наши дни соперничество семейств, торговая борьба, карьерные амбиции, погоня за должностями и званиями носят отпечаток политических страстей.
Политика прежде всего, утверждает один из апостолов современной души; политика везде, может он констатировать, политика всегда, и только лишь политика[136]. Нельзя не увидеть, какую силу приобретает политическая страсть, сочетаясь с другими, столь многочисленными, столь постоянными и столь могучими страстями. – Что касается человека из народа, то, чтобы оценить, насколько изменилось в нем теперь соотношение политических и других страстей в пользу первых, вспомним, как долго всякая страсть его, согласно характеристике Стендаля, сводилась к двум желаниям: 1) не быть убитым, 2) иметь добротную теплую одежду. Вспомним, как медленно впоследствии, когда, частично преодолев нищету, он позволил себе кое‐какие общие взгляды, – как медленно смутные желания социальных перемен преобразовались у него в страсть с ее главными чертами: навязчивой идеей и потребностью перейти к действию[137]. Думаю, можно сказать, что во всех классах политические страсти достигли сегодня у тех, кем они завладели, небывалой степени преобладания над другими страстями.
Читатель наверняка подметил один важнейший фактор описанных нами трансформаций. Что политические страсти стали всеобщими, слитными, однородными, постоянными, преобладающими – во многом дело дешевой ежедневной политической газеты; этого не будет отрицать никто. Напрашивается смелая мысль: а что если межчеловеческие войны еще только начинаются? Такая мысль естественно приходит на ум, когда задумываешься об этом изобретенном сравнительно недавно и доведенном сейчас до невероятной эффективности орудии культивирования страстей, во власть которого люди добровольно отдают себя каждый день, с жадностью поглощая утреннюю прессу.
Мы показали то, что можно было бы назвать совершенствованием политических страстей на поверхностном уровне, в более или менее внешних формах. Но они чрезвычайно усовершенствовались и в своей глубине, в своей внутренней силе.
Прежде всего, они достигли большого прогресса в самосознании. Очевидно, что сегодня (опять‐таки во многом благодаря газете) душа, охваченная политической ненавистью, осознает свою собственную страсть, находит для нее словесное выражение, представляет ее себе с ясностью, какой не было пятьдесят лет назад; нет надобности говорить, насколько она ее тем самым оживляет. В связи с этим я хотел бы выделить две страсти, порожденные нашим временем – вызванные не к существованию, конечно, а к самосознанию, самоутверждению, самолюбованию.
Первую я назову еврейским национализмом. До сих пор евреи, которых во многих странах упрекают в том, что они составляют низшую или, по крайней мере, особенную, не ассимилируемую расу, в ответ на подобные упреки отрицали свою особенность, стараясь развеять самую видимость ее и отказываясь признать реальность рас. Но в последние годы некоторые из них, наоборот, прокламируют эту особенность и описывают ее черты или то, что они почитают за таковые, гордятся ею и резко осуждают всякую волю к объединению с противниками (см. сочинения Израэла Зангвилла, Андре Спира, «Revue Juive»). Я не ставлю здесь вопрос о том, не является ли умонастроение этих евреев более благородным, чем желание множества других, чтобы им простили их происхождение; я только обращаю внимание тех, кого волнует мир на земле, на то, что к амбициям, восстанавливающим людей друг против друга, в наше время прибавилась еще одна, во всяком случае, еще одна сознающая и возвеличивающая самое себя[138].
Вторая из упомянутых мною новых страстей – буржуазность, т. е. стремление буржуазии утвердиться перед лицом класса, представляющего для нее угрозу. Можно сказать, что вплоть до наших дней «классовая ненависть», как ненависть, сознающая и возвеличивающая себя, была преимущественно ненавистью рабочего к буржуазному миру; обратная ненависть проявлялась далеко не так отчетливо. Стыдясь своего кастового эгоизма, буржуазия лукавила, не признавалась в нем даже себе самой, желала, чтобы его приняли – и желала принять его сама – за косвенную форму заботы об общем благе[139]; на догму о классовой борьбе она отвечала отрицанием действительного существования классов. Ясно, что, чувствуя непримиримое противоречие между собой и своим антагонистом, она не хотела признаваться в том, что чувствует его. Сегодня стоит нам подумать об итальянском «фашизме», о «Похвальном слове французскому буржуа» («Eloge du bourgeois français»), о многих других проявлениях того же духа[140], и мы поймем, что буржуазия полностью сознает свой специфический эгоизм; она провозглашает его в качестве такового, чтит в этом качестве и связывает с высшими интересами человеческого рода; она горда тем, что чтит его и противополагает иным видам эгоизма – направленным на ее уничтожение. В наше время, пожалуй, создается мистика буржуазной страсти, противопоставляемой страстям другого класса[141]. Итак, наша эпоха вносит в моральный баланс человеческого рода еще одну страсть, полностью владеющую собой.
Глубинный прогресс в политических страстях на протяжении последнего столетия представляется мне особенно примечательным в отношении национальных страстей.
Прежде всего, оттого что сегодня их испытывают массы, эти страсти стали намного более пассионарными. Когда национальное чувство было, за редким исключением, уделом королей и их министров, оно состояло главным образом в преследовании интереса (вожделении к территориям, искании торговых преимуществ, выгодных союзов); теперь же, испытываемое (по крайней мере продолжительно) народными душами, оно, можно сказать, большей частью состоит в культивировании гордости. Все согласятся с тем, что национальную страсть у среднего гражданина составляет не приверженность интересам своей нации – в которых он разбирается слабо, не обладая и даже нимало не стремясь обладать необходимой для их понимания информацией (известно его безразличие к вопросам внешней политики), – а, скорее, гордость за нее, желание ощущать себя ее частицей, отзываться на оказанные ей почести и нанесенные ей оскорбления. Конечно, он желает, чтобы его нация приобретала территории, чтобы она процветала, чтобы у нее были могущественные союзники, – но желает не столько ради материальных плодов, которые она пожнет (что принесут лично ему эти плоды?), сколько ради славы, которую ей непременно надо стяжать. Национальное чувство, превратившись в народное, стало, в первую очередь, национальной гордостью, национальной обидчивостью[142]. Чтобы оценить, насколько оно стало от этого более пассионарным, более иррациональным и, следовательно, более сильным, вспомним о шовинизме – форме патриотизма, изобретенной, собственно, демократиями. С другой стороны, в том, что гордость, вопреки общему мнению, – страсть более сильная, чем корысть, легко убедиться, если принять в соображение, что люди часто идут на смерть из уязвленной гордости и редко из‐за посягательства на их интересы.
Вследствие того что национальное чувство, становясь народным, обращается в обидчивость, вероятность войн в наше время значительно возрастает. Ясно, что из‐за способности народов, этих новых «суверенов», приходить в состояние возбуждения, лишь только они почувствуют себя оскорбленными, мир между ними подвергается большей опасности, чем в те времена, когда он зависел только от королей и министров, людей гораздо более практических, хорошо владеющих собой и склонных терпеть оскорбление, если они не чувствуют себя сильнейшими[143]. И в самом деле, не сосчитать, сколько раз за последние сто лет едва не вспыхивала война единственно потому, что какой‐то народ считал затронутой свою честь[144]. Добавим, что национальная обидчивость дает вождям наций новое, весьма эффективное средство для развязывания нужных им войн, пригодное для использования как дома, так и у соседей. О том, что вожди это поняли, красноречиво свидетельствует пример Бисмарка – примечательно, какими путями он добился войны с Австрией, а затем с Францией. В свете вышесказанного мне представляется справедливым суждение французских монархистов: «Демократия – это война», при условии что под демократией подразумевают созревание масс до национальной обидчивости и признают, что никакое изменение строя не может покончить с этим явлением[145].

