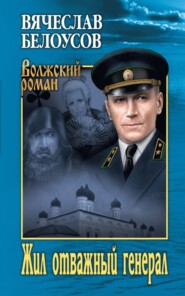
Полная версия:
Жил отважный генерал
– Клады!
– Конечно, клады. Монеты старинные, утварь древнюю. Да мало ли ценностей мы отыскивали при раскопках, в тайниках! Стеллецкий, между прочим, самым удачливым был среди археологов. Ему, как никому, везло на ценные находки. А знаменитую библиотеку царя Ивана Грозного у него, можно сказать, прямо из-под носа увели!
– Как это?
– Вот так! Только и ворам воспользоваться не удалось. Чёрные люди это были. Вот Бог их и наказал, когда власть не смогла.
– Ты нам с Игнашкой как-то рассказывал о чёрных кладоискателях?
– Вот и эти вроде них, только посерьёзнее, думаю. И ведь догадывался Игнатий Яковлевич об этой братве, даже конкретных лиц подозревал, но милиции не удалось на след напасть.
– Бандиты?
– Предполагал он, что перешёл дорожку ещё в молодости одному головорезу. Тот не простым уголовником был. Тоже из дворян и образование имел соответствующее. Археолог, как и Стеллецкий. Только мозги набекрень. Сколотил он шайку из отпетых ворюг и грабил имения и дворцы сбежавших от революции за границу царской знати. Музейщикам, наркомфинотделу да гэпэушникам рук до их охраны не хватало.
– Как же? Дворцы?!
– В подземельях тайники те были. Кто про них ведал?
– А он?
– Чисто работал бандюга. Профессионально тайники грабил. Пока милиция или гэпэушники про ценности проведают, а спец тот, Шлейман криминальный, уже туда заберётся и подчистую всё сгребёт. Слухи ходили, будто имел он своего человека в самом ГПУ, поэтому опережал.
– А Игнатий Яковлевич что же?
– А Стеллецкий свои соображения про тайники и клады обязан был в ГПУ докладывать. Без них и шагу нельзя было сделать. Он ведь первым тайный ход во дворце Юсуповых нашёл. А кто его послушал? Кто хоть пальцем о палец стукнул, чтобы раскопки к той двери начать? С этого юсуповского тайника и всё пошло!
– Что пошло?
– Да ты меня слушаешь или нет?
– А то.
– А чего же спрашиваешь? Бандюге всё с рук сходило. Так бы и шло до поры до времени, пока на двух дворцах не погорел стервец. Первой его большой осечкой и стал тайник, до которого Игнатию Яковлевичу добраться не дали бюрократы. Вместо дела бумаги заставили оформлять крысы конторские, а жулику бумаги не нужны!
Мисюрь вдруг внезапно умолк, словно его осенила догадка, изумлённо как-то глянул на сына, почесал затылок.
– А может, и не случайно всё произошло?…
– Да не тяни, батя.
– Стеллецкому не разрешили копать, так тайник тот, князя Феликса Юсупова, с миллиардными сокровищами, пьяный дворник нашёл да из-под носа Шлеймана того и увёл. Ну, понятное дело, гэпэушники тоже тут как тут. Однако ворам ничего не досталось.
– Чудно!
– А вот второе фиаско грабитель потерпел напрямую от нашего Игнатия Яковлевича. Стеллецкого тогда пригласили искать тайники в московском дворце самого Голицына. Министра, фаворита царевны Софьи, сестры Петра Первого. Пять лет к этому времени прошло после того случая. Только бандюга, оказывается, так и следил за каждым шагом Игнатия Яковлевича. С другой стороны, где ж ему ещё поживиться-то было? Стервятник так и кружил над тем местом, где поживиться мог. Знал, что лёгкая рука на клады у Стеллецкого. Только не удалось ему опять поживиться. Князь Василий Голицын, по тем временам, был человеком сверхобразованным, дружил с иностранцами, алхимией занимался. Магистериум всё искал.
– Что это?
– Философский камень так называли. Верили, что способен тот камень превращать любой металл в золото.
– Нашли, значит, золото-то!
– Нашли, – кивнул головой Мисюрь. – В тайной той подземной лаборатории и золото, и серебро было, только не чудный камень был тому причиной. Князь держал там, видать, свои закрома на всякий случай. Боялся и за себя, и за своё добро. Иезуитом его считали, смерти могли придать. Если не сама царица Софья, так Пётр Первый кончить мог за такие таинства… Но золото и прочие ценности князя уплыли из-под носа бандюги того и в этот раз. А когда год спустя Игнатий Яковлевич исследовал подземные лабиринты в Головинском парке и, случайно наткнувшись, обнаружил место, где бандиты укрывались и держали склад награбленного, стал он этому Шлейману заклятым врагом! Вот с той поры и затаил тот смертную злость на Стеллецкого.
– Ты, батя, сам-то откуда всё знаешь? – Донат пытливо заглянул в глаза отцу. – Тебе ж тогда ещё меньше, чем мне сейчас, было?
– Игнатий Яковлевич рассказывал. Он меня за сына почитал. И в поездки на все раскопки городищ всегда брал. А там ночью-то чего делать? Вот истории его и слушали у костра. К утру, бывало, только и расходились. С ним столько всякого случалось!.. Восточные сказки Аладдина!..
– Я тоже в археологи пойду.
– Вот те на! Чего это враз?
– Я давно решил.
– Это с чего бы?
– Ты Игнашку-то в честь Игнатия Яковлевича назвал? – вместо ответа спросил Донат.
– Игнашку-то? – Мисюрь зыркнул глазами на сына. – А что? Завидуешь?
– А меня почему Донатом?
– Не нравится?
– Церковное имя придумал. Пацаны вон попами да жидами нас кличут.
– Русские мы. А Игнатий Яковлевич-то первое образование духовное имел. В Киеве академию закончил. Богослов он.
– А как же?…
– Что?
– Клады все эти?… Раскопки, тайники?…
– После академии ему на выбор два места для службы предложили. Америку и Палестину. Он выбрал Восток. Познать хотел историю Спасителя нашего, Иисуса Христа. Сам. Своими глазами увидеть, руками пощупать.
– Не верил, что ли?
– Верующий он. Только до всего хотел сам докопаться. Искал следы Господа нашего на земле. Дела его в материю облачённые. Считал, что должны они сохраниться. Вот в Палестине его и заинтересовали древние подземные сооружения. С тех пор и заразился страстью познать истину Божью.
– Интересно всё это! Дух захватывает! – Донат аж засиял весь, засверкал глазами на отца.
– Страшные это тайны подземные, – мрачно произнёс Мисюрь и уставился в пол, где распласталось безмолвное тело монаха. – Жизнью за них всегда несметное число людей расплачивалось…
Донат вздрогнул, вжался в холодную каменную стену, потух глазами, прошептал:
– За что его, отец?
Мисюрь опустил голову, выдохнул:
– Жив, значит, тот бандюга! Больше некому. Только вот как они нас нашли? Сорок лет прошло… Я надеялся, забудут…
А между тем погожим поздним утром…
Кто-то щекотливый и настырный горячим языком облизывал ей голые пятки, чмокая и повизгивая от удовольствия.
– Бим! – вскрикнула Майя, просыпаясь и поджимая ноги под покрывало. – Безобразник! Как ты меня напугал!
Она вскочила на ноги, едва не перевернув палатку, в которой спала; щенок залаял и запрыгал вокруг неё, сумасшедший от счастья.
– Майя! – донёсся от домика голос матери. – Завтракать!
– Я сейчас. Только искупаюсь, – отозвалась она, набрасывая на плечи халат и разыскивая полотенце. – Этот проказник всю меня обслюнявил.
– Поспеши. Собираемся к столу. – Анна Константиновна прошла мимо палатки к берегу. – Мне рыбачков неугомонных собирать.
– Несносный щенок! – смеясь, отмахивалась Майя полотенцем от расшалившегося пса. – Он ещё и кусается!
– Не ругай Бимку. Бабушка послала его тебя будить. Припозднились вчера у костра?
– Я и без него бы поднялась, – запрыгала Майя к речке. – Ишь, будильник нашёлся!
Лохматый хлопотун с лаем понёсся вслед, хватая развивающиеся на девушке полы халата, и замер только у плескавшейся волны. Хлебнув с разбега остужающих брызг из-под ног хозяйки, он фыркнул недовольно и, обидевшись, залёг в траву, спрятался в кустах, но не выдержал и минуты, пустился в погоню за мельтешившими перед его носом назойливыми кузнечиками и нахальными бабочками.
– Папка! – позвала отца Майя, заплыв чуть ли не к середине речки. – Давайте ко мне с Николаем Трофимовичем! Бросайте удочки! Вода теплющая!
Игорушкин и неразлучный его заместитель похаживали в тени дерева у воткнутых в берег длинных удилищ с неподвижными загрустившими поплавками. Оба были в видавших виды обвислых соломенных шляпах, тёмных куртках на голое тело, трусах и резиновых по колено безразмерных сапогах. Униформу эту, несомненно, с известной картины Перова, подобрал им непререкаемый авторитет и спец по рыболовной части Михал Палыч. С его слов, при другой одёжке ни о каком клёве и помышлять не стоило, впрочем, судя по удручённому виду обоих рыболовов, сегодня тоже был не их день: на жидком кукане у дерева лениво плескалась в воде чахлая тарашка, прячась со стыда от любопытных глаз.
– Папка! Плывите ко мне! – надрывалась Майя, несмотря на протестующие знаки отца, подплывая ближе, шумом и криком отпугивая его последние надежды на рыбацкое счастье.
– И то дело, Петрович, – быстро стянув с себя шляпу, сбросив куртку и сапоги, рванулся к воде Тешиев. – Хватит без толку спины гнуть. Я уже спарился совсем.
– Коля! – замахал ему вслед удилищем с пустым крючком Игорушкин. – Наживи мне червячка. Опять сожрали «пожарники».
– Банки на них не хватит! – не останавливаясь, отозвался Тешиев. – Червей на завтра поберечь надо.
– Наживи, Коля! И сигай себе с Богом.
– Не могу, Николай Петрович. – Тешиев бултыхнулся в речку, вынырнул и теперь блаженствовал на спине, выпуская изо рта вверх весёлые фонтанчики воды, словно кит. – Анна Константиновна вон кушать звать пришла, а мы и не купались.
– Как же. Завтракать. Все к столу, – подступилась к мужу и Анна Константиновна. – Маша просила поторопить всех. Остывает самовар. Чайку душистого!
– Не заслужили мы кормёжки, Аннушка, – смущённо улыбнулся муж. – Рыба без уважения пошла. Вчерась ещё клевала, а сегодня как отрезало.
– Лето жарит, – подплыл ближе Тешиев. – Борису Васильевичу следовало пораньше приезжать. Весной. Какой теперь клёв? В мае бы, вот тогда – да!
– Раньше и вода мокрее была, – съязвил Игорушкин, сматывая с сожалением удочку. – Оправдывайся теперь. Вы что мне с Михаилом обещали?
– Что?
– Забыл?
– Рыбу-то? Вон её сколько! – Тешиев закатил глаза, вылезая на берег, ступил в траву и запрыгал на одной ноге, склонив голову набок. – Вода в ухо попала!
– Так тебе и надо, – буркнул Игорушкин, отворачиваясь от него. – Обещалкины!
– Вчерась же уху хлебали! Котёл не доели.
– Рыба, она на крючке должна быть. – Игорушкин покачал головой. – Сердце рыбака радовать. Страсть разжигать. А в котле – это уже кулинария.
– Это моя радость, – засмеялась жена. – Ну, хватит, спорщики! Айда к столу!
– А вон и Борис Васильевич! – крикнула Майя, вскидывая руку из воды в сторону камышовой стены.
Действительно, в плотной стене зелёного тростника за её спиной ясно послышались голоса, всплески воды и шум ломаемого камыша. Голосов было два, один – требовательный, командирский, наставляющий, другой – вежливый, мягкий, вопрошающий.
– Михал Палыч, не иначе, – прислушавшись, хмыкнул Игорушкин. – Загонял он Бориса Васильевича. Ишь, покрикивает!
– Ему наше начальство нипочём, – поддакнул Тешиев. – Попадись маршал, он и тому спуску не даст. Я раз на охоту с ним поехал…
– Не приморил бы он нам его? – забеспокоился Игорушкин. – Городской человек всё же! Отдыхать приехал. А мы его в такую рань подняли.
– Ты же сам, папка, только что про страсти мужские рассуждал. – Майя вышла из воды, приняв от матери полотенце. – Не пойму я тебя!
– Страсть, она в меру хороша, – нашёлся отец. – А с возрастом забываться негоже.
– Вот те раз! – Тешиев хлопнул себя по мокрой коленке. – Это кто же здесь про возраст вспомнил? Стыдись, Петрович!
Освободившись наконец из тростникового плена, на гладь речки выкарабкалась маленькая лёгкая лодчонка, управляемая Нафединым, восседавшим подобно куперовскому Следопыту на корме с веслом. На дне в середине лодки сидел Кравцов, улыбающийся от избытка чувств и не без усилий удерживающий над водой здоровенный кукан с несколькими золотобрюхими сазанами, сверкающими на солнце чешуёй. Хвосты рыбин тонули в глубине.
Игорушкин и Тешиев, не скрывая восторга, закричали, замахали руками, приветствуя счастливчиков, Майя запрыгала с полотенцем, щенок залаял, забесновался вокруг неё. Спокойной и невозмутимой осталась одна Анна Константиновна, не понимая их восторга и укоризненно покачивая головой.
– Еле-еле уговорил возвращаться, – кивая на Кравцова, залебезил перед Анной Константиновной Михал Палыч. – Не оттащу его от коряги, и всё тут! Там такие сазанищи полощутся!
– Время-то! Время! Михаил Павлович! – стыдила его Игорушкина. – Я же предупреждала! У Бориса Васильевича режим! Я на час вас отпускала. Вчера договорились же!
– А вы попробуйте! – Нафедин валил все беды на Кравцова. – Сладьте с прокурором страны! Небось послушает?
– Простите покорно, Анна Константиновна, – вылезая из лодки на берег, поклонился хозяйке Кравцов. – Не сдержался. Совсем про всё забыл. Такой рыбы я не видел. Простите покорно.
– Ну что с вами поделаешь. – Анна Константиновна, улыбаясь, погрозила пальцем. – Последнее предупреждение. Следующий раз вам несдобровать.
– Вот и славненько. – Кравцов повернулся к Игорушкину: – Как улов, Николай Петрович?
Тот только разводил руками, а Тешиев забежал наперёд, перехватил у Нафедина кукан с рыбой, задёргал, тяжело заплескал ею воду у берега. Рыба, ещё живая, лениво и величаво таращила на людей глаза.
– Я сам таких давно не видел, – радовался, как ребёнок, зам. – Всё на сковородке как-то. В жареном виде.
– А я что вам говорил? – Нафедин приостановился, схватил Тешиева за руку. – Кто сомневался, что рыба в Волге есть?
– А кто сомневался? – Тешиев вперился в Игорушкина.
– Ловить надо уметь, – не унимался Нафедин. – Мы вот с Борисом Васильевичем на завтра решили ещё в одно местечко сгонять. Махнёте с нами? На двух лодках?
– А чего же.
– Мы разом.
– Так, друзья мои, – прервала всполошившихся рыбачков Анна Константиновна. – Давайте эти разговоры пока прекратим. Давайте пока к столу, а там…
– Мама! К нам кто-то приехал! – Майя, схватив Анну Константиновну за руку, повернула её в сторону ворот, где неистовствовал, заходился в лае пёс.
– Это к тебе, конечно, – отмахнулась Анна Константиновна. – Ребята, наверное, с института? Ты же приглашала.
– Ко мне?
– Виктор Сергеевич Волобаев давно здесь. С Машей стол накрывает к завтраку. Больше некому.
– Я не приглашала. – Майя вспомнила обиду, надула губки. – Папка же запретил.
– Кому там быть? – Игорушкин тоже обернулся на лай собаки. – Мы никого не ждём.
За забором никого не видно. Лишь возбуждённо прыгающий на калитку пёс заходился в громком лае да слышен был едва различимый шум работающего автомобильного двигателя.
– На машине кто-то. – Тешиев передал кукан с рыбой Нафедину. – Раз Сергеич здесь, чужие, не иначе. Я схожу посмотрю.
– Я сбегаю, Николай Трофимович, – блеснув глазами, вдруг сорвалась с места Майя, махнув собаке полотенцем. – Бимка! Прекрати дурацкий концерт!
И она, тонкая и лёгкая, припустилась к калитке.
– Бимка! Фу!
Но пёс уже и сам перестал бесноваться, притих и только прыгал вокруг калитки, повизгивая и виляя хвостом, словно уже получил вкусненькое.
– Бимка, ко мне! – подбежала Майя и открыла калитку.
Вытянувшись в струну, поедал её жгучими глазами высокий черноволосый старший лейтенант милиции, гвардеец с картины, весь в кожаных ремнях, с пистолетом на боку и в облаке пьянящих духов.
– Здравия желаю! – лихо приложил он к козырьку форменной фуражки два пальца правой руки.
– Здравствуйте, – обмерла заалевшая вдруг Майя, поправляя разметавшийся на груди и в ногах легкомысленный, ставший маленьким халатик. – А вам кого?
– Прокурор области Николай Петрович Игорушкин здесь, простите? – Красавчик не стоял, а выскакивал из сапог, и Майя отражалась вся в его распахнутых от восторга глазах.
– Тут. – Девушка не слышала своего голоса, она никак не могла справиться с непослушным халатом.
Офицер пришёл в себя и улыбнулся.
– Папа! – позвала Майя, но ей только показалось, что она кричала.
Чёрные люди
Мисюрь опёрся о косяк входной двери горячим потным лбом, перевёл дух, перекрестился. Ну вот он и дома.
– Слава богу, – прошептал спёкшимися губами. – Самое страшное позади.
Мисюрь оглядел тяжёлым взглядом коридор подвала, где ютилось в однокомнатной дворницкой всё его семейство; метла вразномасть в углу, вёдра, лопаты на месте; сейчас отдохнёт на лежаке, вздремнёт с часок до полного рассвета, а там и за уборку улиц примется, как раз пора настанет, считай, ночь всю на ногах отмотал…
«Намучился, – пронеслось в гудящей голове. – Сколько месяцев уже не ползал так под землёй! Последний раз с Марией привелось, когда горе-то приключилось… Донат интересуется – убил кто? Не убили, сынок, мать твою грешную. Слава богу! Сама себя сгубила любимая жинка. С ним, с подземным червём, связалась… Это её и сгубило… А как сказать?…»
С усилием разжал не слушающиеся от усталости губы.
– Прости, Господи, меня, грешного.
Тяжки были его минувшие ночные бдения: ночь под землёй в духоте, вонь от коптящих факелов до сих пор ест нутро; хорошо, Игнашка подоспел с фонариками, а не принеси он их, совсем задохнулись бы они с Донатом в тайных подземных лабиринтах. И убиенный поплыл, запах тяжёлый пошёл от тела монаха, едва успел Мисюрь его землице придать. Оставил бы на день-два, пропал бы совсем, не подступись тогда к трупу в жаре и духоте такой, в темноте да под землёй. А там вода рядом!..
Мисюрь чуял, как сдал; рад бы был шаг ступить, идти дальше отдыхать в дом родной, только сил нет. Никак не отдышится, дрожат ноги ватные, не держат его тело.
Не тот уже Мисюрь, стар совсем, а всё, бывало, хорохорился перед Марией. А её не стало, раскис. Не заметил, как ослаб. Себя не узнаёт. А ведь в памяти ещё, как с Игнатием Стеллецким ни одну ночь кротами в подземельях проводили, и ничего! Наверх выбирались, воздуха свежего глотнуть и опять под землю. Да что там со Стеллецким! С Марией они здесь уже, в кремле, давали жару! От Троицкого собора, считай, все ходы зараз проходили и дела успевали сделать: тайники, схроны, какие попадались, проверяли, в «каменные мешки»[4] заглядывали при случае… Сколько их пришлось раскопать!.. Страху-то натерпелись, пока до заветных мест добрались!.. Марии удача улыбалась…
Мисюрь горько вздохнул, закрыл глаза, жена, словно живая, предстала перед ним. Красивая, манит зелёными лукавыми глазками, посмеивается…
– Миська, мой любимый, – слышит он её нежный голосок, колокольчиками тот голосок перезванивает в его мозгу, дрожь по всему телу от знакомого щебетания, тянется он весь к ней, поймать хочет в объятия.
– Мисюрик, цветочек мой… – не умолкает в мозгу.
– А! Чтоб тебя! – дёрнулся Мисюрь к жене, ударился лбом о косяк, очнулся, пропало виденье.
«Что это со мной? – испугался весь, мышью в голове забегали ужасы. – Задохлось совсем сердце без кислорода под землёй! Всё! Конец пришёл! Хана! Лёгкие не те!»
Сколько он под землёй пробыл? Часов восемь-десять? Не держат ноги. И сердце совсем сдало! Тень от прежнего Мисюря осталась. Бывало, быка матёрого рогами наземь гнул, а теперь сам едва стою! Душу из телес выбивает дыханье-то! И куда? Ей теперь спешить только наверх! На небеса. Да пустит ли Господь? Грехов на тебе, окстись! Не счесть! Не примет Господь. Не берёт он таких к себе. Червём в земле ползал, в земле гнить придётся. Смердеть!
Мисюрь несколько раз неистово перекрестился тяжёлой рукой.
– Прости, Господи! Прости раба своего!
Что это с ним? Полчаса у косяка валандается, как бесноватый! Аж сердце из груди выскакивает! Не иначе приступ? Никак в себя не придёт! И ноги трясутся? Что это? Уж не конец ли?!
Мисюрь утёр горячий пот со лба, с лица, открыл глаза, огляделся. Тяжко дался ему этот треклятый визит под землю. Не ходок он туда более. Не ходок. Не вылезет как-нибудь однажды на белый свет.
– Донат! Игнашка! – толкнул он дверь, но та не поддалась. Заперлись изнутри ребятишки-то. Ну и правильно сделали, как он наказывал. Не дай бог, завалится кто ночью!
– Игнашка! – застучал Мисюрь металлическим кольцом, вделанным им самим когда-то в дверь для удобства. – Открывайте, детки!
За дверью ни движения, ни звука.
– Спят, поросята, – остывал он, приходя в себя. Что это его встревожило-то? Что особенного случилось? Ну, спят пацаны. А как иначе? Рассвет вон только-только зачинается. Ночь ещё не сбежала со двора. Петухам бы петь, да не деревня!
Мисюрь нашарил ключ в кармане, с третьего раза вставил его подрагивающими пальцами в замок, повернул два раза и шагнул за порог. Сквозь три зарешечённых оконца падал свет внутрь комнаты от единственного во дворе фонаря. В полумраке он нашарил на стене выключатель, щёлкнул торопливо, загорелась ослепившая его лампочка. Что-то в комнате заставило его насторожиться, что-то озадачило, он сразу и не понял. Стол, чистый посредине, обычно весь заставлен посудой, в книжках мальчишкиных, в разной ерунде. И ни одного стула, ни табуретки. Чем они здесь занимались без него? И кот не бросился в ноги, как обычно; тут же вспомнил он – и Жулька во дворе не лаяла, не мельтешила. Вымерло всё, не иначе.
– Да где вы все? Прятаться задумали? – Он шагнул в детский угол комнаты, где обычно спала на одной кровати ребятня, ухватился за край полотняной шторки на верёвочке, рывком отдёрнул её в сторону и замер.
Перед ним сидели на стульях два незнакомца. Один, безобразно толстый и лысый, щурился от света, постукивая кастетом в ладошку. Второй, болезненно худой и белый, поигрывал ножичком перед самым его носом. За их спинами, привязанный каким-то шмотьём к кровати, дёргался Игнашка с заткнутым полотенцем ртом.
Мисюрь отпрянул назад, круто развернулся, но получил страшный удар в лицо и без чувств свалился с ног.
– Заждались тебя, папашка, – сплюнул на него худой, поднялся со стула, перешагнул через лежащего Мунехина и затворил за ним дверь. – Ты побережней с ним, Ядца. Ум вышибешь.
Толстяк хмыкнул, спрятал кастет в карман необъятного светлого парусинового пиджака.
– А чего он скачет, как козёл?
– Папашка нам ещё понадобится. А бегать он больше не станет. Не будешь, правильно я говорю? – нагнулся над Мунехиным худой.
– Он теперь долго думать будет, – сплюнул и Ядца на лежащего. – Ты бы его водичкой, Хрящ? Освежи.
– Это можно. – Хрящ повернулся к кровати, перерезал путы мальчишке, вытащил полотенце у него изо рта. – Ну-ка, малец, полей на отца вон из того чайничка. Да не шалить, а то я ему горлышко-то подрежу.
Хрящ защёлкал ножичком перед лицом приходящего в чувство Мисюря, лезвие засверкало, запрыгало туда-сюда у глаз Мунехина.
Парнишка в одних трусах, согнувшись от страха, с заплаканным лицом поднёс чайник.
– Лей, не жалей! – заржал Хрящ оглушительно. – Спасай отца, малец. И нюни утри.
Мунехину вода не понадобилась, он уже во все глаза смотрел на незваных ночных гостей, пытался встать, но не удавалось, а подавать руки ему никто явно не намеревался.
– Лежи пока, – пихнул его без особой злобы, больше для острастки Хрящ. – Команду дам, встанешь.
– Кто вы? – разжал губы Мисюрь. – Чего вам надо от нас?
– Правильно начинаешь, голубчик, – подал тонкий дребезжащий голос толстяк. – Познакомиться нам не помешает. Давай поведай-ка о себе.
– Что ж о себе? Мы люди простые, – озираясь, Мисюрь искал глазами второго сына: Доната определённо в комнате не было.
– Болтай, болтай. Чего замолчал? – щёлкнул опять у него перед лицом ножичком Хрящ. – Мне твоя биография интересна.
– Чего же сказать? Дворник я. Какой от меня интерес?
– Дворник?
– Улицы мету.
– Улицы, говоришь?
– Ну да. Чего ж ещё, если дворник?
– А смотри-ка сюда! – Хрящ зверем схватил мальчишку, так и стоявшего возле отца с чайником в руках, прижал к себе.
Чайник грохнулся на пол, вода залила Мунехина, но он закричал не от этого, а от страха, когда увидел, как Хрящ ткнул ножом в глаз Игнашке. Тот чудом успел увернуться, нож полоснул по щеке подростка, оставляя яркий кровавый след.
– Не трожь дитя! – рванулся было Мисюрь к бандиту, но не успел приподняться, как снова распластался на полу от жёсткого удара кастетом.
Толстяк Ядца опять потёр, погладил сверкающий кастет ладошкой, участливо покачал головой.
– Так и не доживёт до утра наш собеседник.
– Уж больно нервный.
– Горяч.
– И неразговорчивый.
– А ты с ним по-другому.
– Это как?
– Пощекочи пацана. Папашка скорее заговорит.
Хрящ, не отпуская насмерть перепуганного мальчишку, приставил ему нож к уху:
– Проси отца, чтоб дуру не гнал.
Игнашка заскулил, засучил ногами в руках бандита.
– Оставь ребёнка, сволочь, – очнулся Мунехин. – Что он тебе?
– А ты не дёргайся. И рассказывай шустрей. Некогда мне твои сказки слушать.
– Что вам надо?
– Сам знаешь. Не догадался, кто с тобой беседует?



