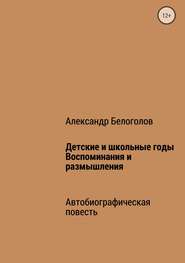 Полная версия
Полная версияДетские и школьные годы. Воспоминания и размышления
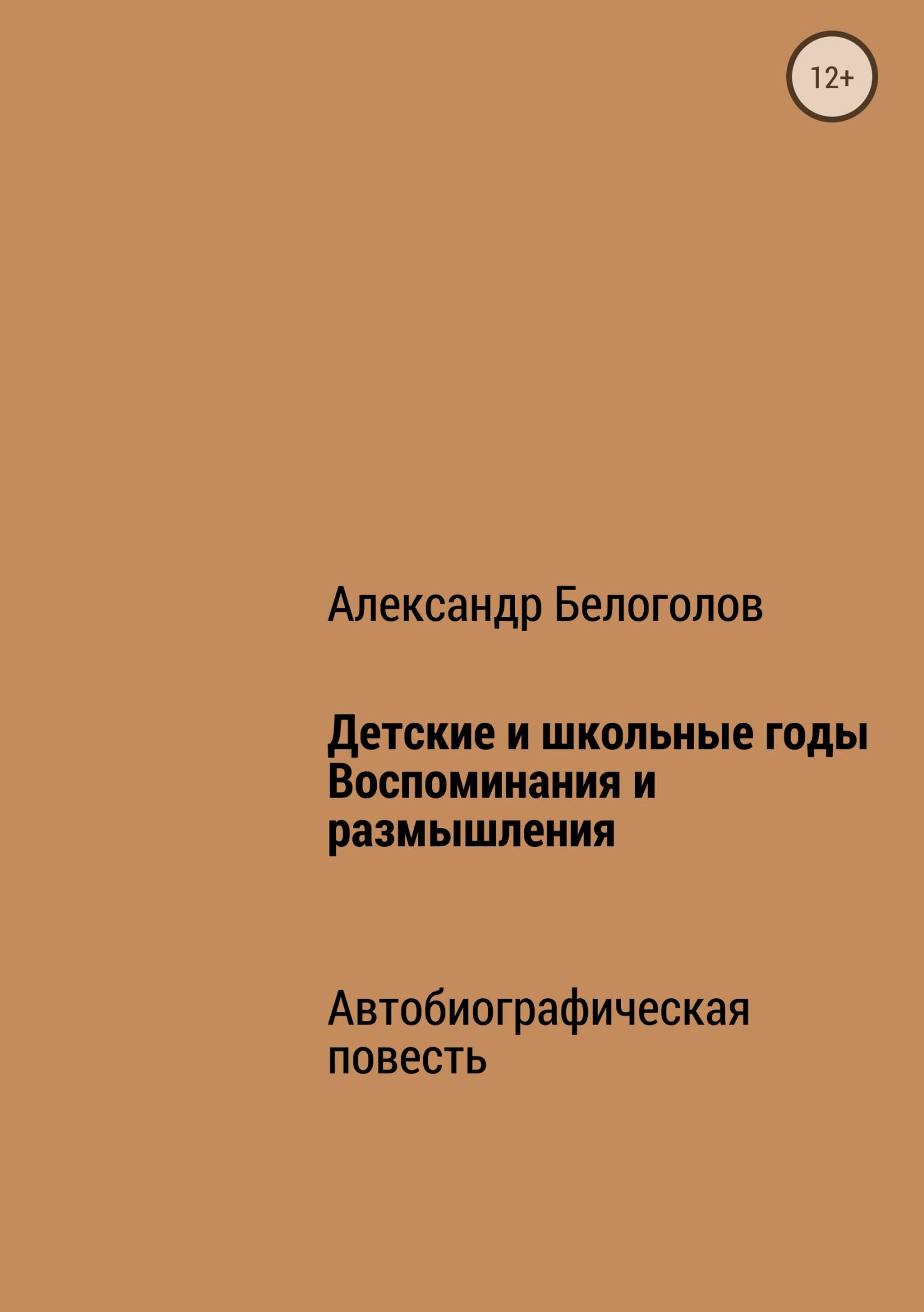
Я проснулся и открыл глаза. Ставни на окнах были закрыты, но через длинную вертикальную щель в одной ставне в комнату врывался веселый солнечный луч, в котором плясали тысячи пылинок (для дома с печкой и почти что сельским укладом жизни это обычное дело). Я подал голос, но к моему удивлению, никто не отозвался и ко мне не подошел. Раньше такого никогда не было, и меня охватил страх, что меня бросили. Я укрылся одеялом с головой, надеясь чего-то дождаться под такой надежной защитой. Но теперь проснулось моё пи-пи, которое ждать не желало. Я еще немного потерпел, и со слезами на глазах бросился в сени, а из сеней на крыльцо. И здесь всё моё существо охватила неуемная радость. Оказалось, что всё в порядке, и всё на месте. Ярко сияет летнее солнце, по двору ко мне идет улыбающаяся бабушка, на крыльце сидит и умывается кошка Мурка, а возле своей конуры сидит, и немного склонив голову набок, смотрит на меня собака Тузик. И наконец-то можно сделать пи-пи прямо с крыльца. И еще меня охватывает гордость, что я сам сумел вывернуться из такой сложной ситуации. Это мои самые первые воспоминания с тех пор, как я начал себя осознавать.
Событие это имело место в нашем старом доме на улице Мастерской. Этот дом построил дед Петя в 1939 году. Из-за недостатка средств дом был построен как времянка – с засыпными стенами, которые делаются из двух рядов досок, а между ними для утепления засыпаются опилки. Дед каждую осень добавлял в стены опилки и утрамбовывал их специальной палкой. Благо, лесопилка была недалеко, и опилки можно было брать в неограниченных количествах. Все дома на нашей улице, как и на всех остальных, были обязательно со ставнями, которые на ночь закрывали и зимой и летом, и еще обязательно закрепляли крепкими металлическими накладками, которые фиксировались с внутренней стороны дома. Так что, пробраться в дом, с учетом крепкой входной двери, было не так-то просто. И каждый дом был обязательно с мощными воротами и кованым кольцом на калитке – для вызова хозяев.
Дед и мой папа беспокоились, что дом долго не простоит, и в конце пятидесятых годов начали строить новый, бревенчатый дом на своем же участке, со сдвигом в сторону огородов. Помнится, что средств на эту стройку тоже катастрофически не хватало. Папа продал на рынке свой фронтовой бинокль, аккордеон и что-то ещё. А старый дом благополучно стоит до сих пор, и в нем живут люди.
На нашем краю улицы дома были только на одной стороне, так как на другой стороне, под горкой было озеро, из которого брали воду для полива огородов и других хозяйственных нужд. С улицы, находящейся на возвышении перед озером, открывался прекрасный вид на Манутские горы и каньон реки Ия между ними. Весной на горах расцветал багульник, и склоны окрашивались в розоватый цвет.
Местные аборигены – буряты не зря выбрали это место для своего поселения и дали ему название Тулун, что в переводе с бурятского языка означает «мешок». Очень меткое название, так как Тулун со всех сторон окружен горами-отрогами Саян и рекой Ия, которая образует своеобразную петлю вокруг города. За озером был большой луг, на котором пасли коров, и были коновязи и круговой ипподром, на котором раз в год, во время ярмарки, проводили лошадиные скачки на тележках. На ярмарке, которую почему-то называли выставкой, устраивались многочисленные торговые точки с промышленными товарами. Было много китайских товаров хорошего качества. Мама с бабушкой, помнится, купили «вечные» шторы, скатерть и расписной стеклянный кувшин. Этот кувшин, если не расколотили, до сих пор «живет» у брата Анатолия на их фазенде. На выставку-ярмарку собиралось множество народа, многие приезжали на лошадях (по-видимому, из ближайших сел), которых привязывали к коновязям.
В мои дошкольные годы электричества на улице не было. Жили с керосиновыми лампами. Ламп в нашем доме было две. Одна, обычная лампа ставилась на специальную полочку на кухне, вторая – «молния» подвешивалась к потолку в большой комнате. Дед Петя раз в неделю ходил покупать керосин, чистил и заправлял лампы. Большим дефицитом были ламповые стекла. Мой папа и его друг дядя Гоша придумывали разные способы увеличения срока службы стекол. Вешали на край стекла булавки, загнутые гвозди и прочие железки. Помогало ли это – не знаю.
Электрификация, скорее всего, была сделана, когда я пошел в первый класс. Помню, что делали это, как тогда говорили «миром». Собрались мужики с улицы, быстро выкопали ямы, под руководством какого-то дяди поставили столбы, ну, а провода уже натягивали электромонтеры. И всё было сделано очень быстро.
Почти каждое лето, во время июльской жары, наша река Ия разливалась из-за таяния снегов и проливных дождей в горах Саянах. При этом мимо наших домов начинала протекать полноводная река, так как наше озеро представляло собой часть старого русла реки, которая изменила свое течение в незапамятные времена. Мама, помнится, использовала эту ситуацию, чтобы постирать и прополоскать бельё. Вообще, бельё стирали и полоскали дома, но несколько раз в год возили полоскать на реку, так как до реки было недалеко – около километра. Зимой городские власти устраивали на льду реки помещение с печкой и длинной прорубью, в которой хозяйки полоскали белье.
Никакого водопровода в городе, за исключением городской бани, не было, и люди выкручивались, кто как мог. Ходили на реку с вёдрами и коромыслами, устраивали колодцы, и еще воду развозили водовозы на лошадках с бочками. Зимой на реке постоянно поддерживались проруби для набора воды. У нас в огороде был колодец со срубом из лиственницы, но воду использовали, в основном для полива, а для питья папа или дед заказывали водовоза. Почему-то считалось, что колодезная вода не очень полезна для человеческого организма. У ближайших соседей колодцев не было. Я, когда стал постарше, перетаскивал привезенную водовозом воду ведром в домашнюю бочку, а дед в это время приглашал водовоза к столу, и чем-то его угощал.
Когда половодье заканчивалось, вода в нашем озере нагревалась и в нем с удовольствием купались дети, а иногда и взрослые. И я научился плавать именно в этом озере. В последние годы, насколько мне известно, из разговоров с моим старым другом – тулунчанином, таких разливов реки уже не происходит, и сама река начинает мелеть. Всё это результат деятельности человека, когда по берегам реки безжалостно вырубались леса под девизом «стране нужен лес». Аналогичная ситуация складывается и с другими сибирскими реками, да и озеро Байкал в последние годы, как сообщалось в СМИ, также начало мелеть.
Где-то в конце пятидесятых годов начали строить новый дом. Дед с папой купили где-то неподалеку бревна для дома и их привозили на наш участок колесным трактором, просто волоком, по несколько бревен за одну поездку. Мне разрешили сделать пару рейсов в кабине трактора вместе с водителем, которого звали Аркадием, который сказал, что трактор немецкий – трофейный. Мама пыталась меня не пустить, объясняя, что от тракторного запаха меня будет тошнить, но как раз запах работающей машины мне очень нравился. А мама всю свою жизнь плохо переносила различные технические запахи, и длительная поездка на автобусе для нее была серьезным испытанием. Что же касается общения с трофейной немецкой техникой, то, как мне кажется, начиная с той поездки на тракторе, всё время приходилось сталкиваться с трофейной техникой. На подземной линии связи между Москвой и С. Петербургом в течение многих десятилетий работали кабели связи немецкого производства, выкопанные из грунта в Германии по окончании Великой Отечественной войны по репарациям. Было и другое оборудование, полученное по репарациям. У секретаря производственной лаборатории, в которой я проработал много лет, была пишущая машинка «Ундервуд» с замененным на кириллицу шрифтом. У меня в лаборатории до двухтысячных годов был в работе сверлильный станок, выпущенный в городе Штутгарте в 1938 году. На шильдике станка была свастика, а по документам он числился как «станок особых поставок». Да и в моей домашней коробке с разными винтиками и гаечками до сих пор можно найти стальные винтики, покрытые медью, от немецкого трофейного оборудования связи В-200.
В новом доме были устроены кухня с большой русской печкой и плитой, столовая и две комнаты. Были, разумеется, и сени с выгороженной кладовкой и веранда. Печка была с двумя «зеркалами» (чугунными плитами, встроенными в стенки печки вместо кирпичей) в каждой комнате. Когда в сильные морозы печку интенсивно топили, зеркала нагревались докрасна. Помнится, однажды брат Толик пробегал мимо топящейся печки, запнулся и упал, опершись рукой на раскаленную дверцу топки. На дверце были выпуклые буквы ИЗТМ (Иркутский завод тяжелого машиностроения), которые выжгли на ладони братика своеобразное тавро, которое долго заживало. В столовой стоял большой и очень тяжелый стол еще дореволюционного производства, что определялось по намертво приклеившимся к крышке стола газетам с буквами ять и прочими признаками старой орфографии.
В те годы (начало шестидесятых) мой папа имел обыкновение читать газеты во время обеда. Я, естественно, газет не читал – было неинтересно. Это время было насыщено различными политическими событиями: разгар холодной войны, распад колониальной системы и освободительные войны в Африке, и прочие дела. Чтобы во всем этом ориентироваться папу купил и повесил на стене в столовой большую политическую карту мира. И когда по радио передавали о каких-либо событиях, мы все смотрели на эту карту, идентифицируя событие и место, где оно происходит. Еще и в столовой, и в комнатах висели портреты детей и взрослых. Наверное, это было очень модно, так как портреты были практически в каждом доме, а на рынке работали мастера, которые из фотографии любого качества изготавливали портрет. Сервис пользовался большим спросом. У нас все портреты папа сделал сам. Была еще одна повальная мода – коврики, нарисованные на клеенке, которые вешали на стены. Понятно, что эта «мода» была следствием определенной послевоенной бедности населения. Даже дед Петя, в принципе равнодушный к таким вещам, как-то не устоял и купил такой коврик, на котором была нарисована украинская хата под соломенной крышей. Скорее всего, эти коврики мазали по трафаретам. После долгих обсуждений коврик всё-таки повесили на стену возле кроватки Толика. Через несколько лет папа как-то по случаю купил настоящий шерстяной ковер аналогичного размера, а украинская хата куда-то испарилась.
У нового дома, как и у старого, были устроены мощные ворота с калиткой, врезанной в одну из створок ворот. На землю, вдоль ворот укладывалась доска, препятствующая проникновению кур и цыплят за ворота. Я, помнится, был уже старшеклассником, когда зимним днем взялся чистить снег у ворот, приоткрыв их створки. А тяжеленную, промерзшую доску поставил вертикально, чуть-чуть прислонив ее к одной из створок. В это время откуда-то пришла бабушка, и, увидев, что створки приоткрыты, не стала открывать калитку, а протиснулась между створок. И поставленная мною кое-как доска, естественно, обрушилась ей на голову. Бабушка ойкнула и упала, а доска упала на нее. Всё, слава богу, обошлось благополучно, так как бабушка была в зимней шапке и зимней одежде. Ее только слегка оглушило. Спрашивается – зачем я сделал этот братоубийственный снаряд. Ответ прост – ни ума, ни опыта не хватало.
Летом 1956 года дядя Леша и тетя Тома – дочь бабушки Аси и деда Пети привезли к нам своих детей Сашу и Люсю на весь учебный год, так как тете Томе нужно было заканчивать учебу в институте, и времени на детей у нее не было. С 1 сентября мы стали учиться в одной школе. Саша пошел в 7 класс, я – во 2-ой, а Люся – в 1-ый. Дома остался только мой младший брат Толик, которому было только 5 лет. С этим делом были небольшие проблемы, так как нам – ученикам нужно было после занятий в школе делать домашние задания, а Толик постоянно подбивал всех поиграть. Он даже иногда прятал наши тетрадки и книжки, чтобы мы не могли делать уроков. Конечно, мы во что-то играли (в какие-то простые игры). К нам часто приходил мамин младший брат Виталий, который был одного возраста с Сашей. И они вдвоем меня всегда обыгрывали (наверное, жульничали), иногда доводя до слез.
Когда Люся и Саша жили у нас, Саша был «первый парень на деревне». Во-первых, он один в нашей школе ходил в настоящей школьной форме – с ремнем и фуражкой с кокардой. Во-вторых, он повидал много такого, чего нам – провинциалам и не снилось, и умело рассказывал о больших городах, самолетах и трамваях, марках автомобилей и прочих интересных вещах. Девочки его возраста, как мне помнится, просто млели. А нас – малышей обучал, как у нас говорили «соромским», т.е. не очень приличным песенкам и стишкам. Люся также сумела себя проявить в этот учебный год. Она без всякого труда прошла тестирование и стала учиться игре на скрипке в студии при школе, и уже на школьном новогоднем празднике играла со сцены «Во поле берёзонька стояла». Эти занятия навсегда связали ее с музыкой и определили всю трудовую деятельность. Меня, помнится, тоже водили на тестирование, с которого с треском отправили домой из-за отсутствия каких-либо способностей.
Летом 1957 года у нас на дворе появились какие-то незнакомые люди с большим количеством багажа, среди которого были совершенно непонятные вещи. Как я теперь понимаю, это были геодезические приборы и какое-то оборудование. Этих людей гостеприимно приняли, и они разместили свои вещи, поставив во дворе палатку. Среди них были одна или две женщины, и их как-то разместили на ночлег. Помнится, что между приезжими и нашими взрослыми шли разговоры с постоянным упоминанием слов «Братск», «Иркутск», «Братская ГЭС», «ЛЭП». Я ничего этого не понимал, и мне было неинтересно. Хорошо помнится только то, что меня посылали с неким дядей Ромой из числа приезжих показать, где находятся почта, сберкасса и еще какие-то государственные службы. Мне было уже 9 лет, и я всё это знал. Дядя Рома купил и подарил мне какую-то художественную открытку, что-то на ней написав. Что он написал, я не помню, а открытка со временем затерялась. Об этом эпизоде мы с мамой разговорились спустя лет пятьдесят. Мама рассказала, что это были изыскатели строительства Братской ГЭС, а попали они к нам по рекомендации дяди Леши – отца Саши и Люси. Он приезжал к нам после окончания учебного года, чтобы забрать детей домой – в Краснодар. Из Москвы в Иркутск он летел самолетом и в самолете разговорился с этими изыскателями, которые поведали, что им предстоит попасть в какой-то неведомый Тулун и как-то там обосноваться, чтобы приступить к выполнению ответственной работы. И дядя Леша успокоил их, объяснив, что в Тулуне живут обыкновенные люди, и дал наш адрес. Всё-таки я думаю, что это были изыскатели не Братской ГЭС, а знаменитой ЛЭП-500 Братск – Иркутск, о которой композитор Пахмутова написала одноименную песню, т.к. ГЭС в это время уже строилась.
В Тулуне, когда я был маленьким, проживали прибалты, депортированные (сосланные) в Сибирь после окончания войны за противодействие советской власти. Точно знаю, что были латыши и эстонцы. Одна эстонская семья проживала на нашей улице, буквально через один дом от нашего дома. Как мне помнится, отношения с ними были вполне нормальными, хотя мужчина – глава семейства на русском языке почти не говорил. В этой семье были дети примерно нашего возраста, и они быстро адаптировались к окружающей обстановке, изучая русский язык в играх со сверстниками. Эта семья вернулась на родину где-то в конце пятидесятых годов. На прощанье устроили «отвальную», пригласив всех ближайших соседей. Несколько раз присылали с родины письма с фотографиями и даже посылки с яблоками, которые у нас не росли. Насчет того, что яблоки не росли – не совсем правильно. На юге Сибири растут дикие яблони. Каждое яблочко размером с горошину. Кислятина страшная. Но после крепких ночных сентябрьских заморозков эти яблочки становятся желто-прозрачными и очень вкусными.
В те же годы (конец пятидесятых), точно, я, разумеется, не помню, произошло еще одно знаковое событие. В нашей семье не стало коровы, и всем обрезали огороды. Бабушка Ася с дедом Петей всегда держали корову, что при наличии большого огорода обеспечивало сытую жизнь, если, конечно, не лениться. Тогдашнее руководство нашей страны выступило с инициативой о том, что советские люди должны расти духовно, а не ковыряться в огородах и в хлевах. А что касается хлеба насущного и пропитания, то государство всех обеспечит. Наверное, на эту тему были выпущены какие-то постановления, так как эту идею начали реализовывать. Я, своим детским умом, был очень далек от понимания происходящего, но указанная тема постоянно звучала по радио и поэтому всё хорошо запомнилось. Во всяком случае, по дворам стали ходить какие-то люди, описывая крупный рогатый скот, который нужно было сдать государству. Как и куда увезли, или увели корову, я не помню, но чувства у меня были противоречивые. С одной стороны, бабушка перестала меня мучить, заставляя пить парное молоко или свежие сливки, которые мне не нравились. С другой стороны, не стало своих творога, масла и прочих вкусняшек. Взрослые погрустили, а потом успокоились, так как основная нагрузка по хозяйству лежала на бабушке с дедом, а им было уже далеко за 60 лет. Бабушка, правда, успокоилась не сразу, и завела козу Маньку, но и ее ликвидировала года через два. Помнится, что сливочное масло делали с помощью ручной маслобойки, которую брали у бабушкиной племянницы тети Нюры, которая жила в соседнем доме. Я неоднократно ходил за маслобойкой, и относил ее обратно. Маслобойку перед переноской обязательно заворачивали в тряпки, а мне было строго-настрого наказано никогда, никому и нигде не говорить про маслобойку и про масло. Скорее всего, масло считалось стратегическим продуктом и его следовало сдавать государству.
Огород при старом доме был большой – 24 сотки. Такие огороды на нашей улице были у всех, так как всеми видами овощей население обеспечивало само себя. Такой огород вручную не очень то и вскопаешь. Поэтому каждую весну бабушка нанимала пахаря с лошадкой, который за несколько часов всё распахивал. И вот, настал момент, когда огороды по всей длине нашей улицы власти «обрезали», скорее всего, наполовину, а на освободившемся месте было разрешено строительство новой улицы Фрунзе, хотя свободного места на лугу было более чем достаточно. При этом нас с братом Толиком постиг еще один удар. Дело в том, что из окна кухни старого дома открывался величественный вид на Сенькину горку на противоположном берегу реки Ии, по которой проложена Транссибирская железная дорога. Мы очень любили наблюдать за идущими по дороге один за другим поездами, обсуждая, столкнутся ли когда-нибудь встречные поезда, но они всегда благополучно разъезжались. И еще на этой горке находился, как его называли, «секретный объект» с высокими мачтами, на которых в темное время зажигались красные огоньки. Объект секретный, но все знали, что это станция глушения вражеских радиоголосов. И действительно, когда, например, «голос Америки», начинал передачу на русском языке в диапазоне коротких волн, дикая какофония звуков забивала голос диктора. Нам было просто интересно с технической точки зрения поймать Америку в центре Сибири, а не то, о чем говорит американец. И вот результат – построенные на новой улице дома скрыли от нас эту прекрасную картину.
Еще за рекой находился лесозавод, который по определенному расписанию подавал гудки. Дед Петя объяснял, что далеко не в каждом доме есть часы, и люди ориентируются по гудкам, которые были слышны очень далеко. Гудки подавались на подъем, начало рабочего дня, обед и окончание рабочего дня. У нас в доме проблем с часами не было. На кухне тикали обычные ходики, у папы были трофейные швейцарские часы, а у деда настоящий брегет в серебряном корпусе. Этот брегет сейчас хранится у меня. В каком-то году гудки подавать прекратили. Воспоминания о железной дороге и поездах напомнили о рассказах бабушки Аси. Во время Великой Отечественной войны она частенько собирала продукты (вареную горячую картошку, молоко и прочее) и несла их на железнодорожную станцию, до которой никак не меньше восьми километров и раздавала красноармейцам из воинских эшелонов, которые останавливались на станции. Эшелоны шли, как она говорила, постоянно. На восток – с раненными бойцами, а на запад с пополнением из выздоровевших и вновь мобилизованных. И так поступали многие, остававшиеся в тылу люди. Кроме того, вязали и собирали для фронта теплые вещи, денежные средства – кто, что мог. И Гитлер, и все предыдущие завоеватели не догадывались, что наша страна в лихую годину может объединиться в единый несокрушимый лагерь.
Не могу не вспомнить тогдашнего руководителя нашей страны Н. С. Хрущева. Где-то в начале шестидесятых годов он выступил на съезде КПСС с ошеломляющим заявлением «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Максимальный срок вступления в коммунизм был определен в 20 лет. Не знаю – поверил ли кто-нибудь этому заявлению? Скорее всего, партийные и государственные функционеры просто делали вид, что так и будет. Во всяком случае, был кем-то разработан и повсеместно распространен так называемый «Моральный кодекс строителя коммунизма», в прокат стали выходить фильмы о молодых строителях коммунизма, действующих по этому кодексу. Мне и моим друзьям тогда было лет по 13-14, и мы на все эти вещи мало обращали внимания, но примечали, что жизнь становится всё сложнее с точки зрения обеспечения народа продуктами. Особенно плохо в те годы стало с хлебом. Его в магазинах или вообще не было, а если он появлялся, то собирались огромные очереди с обычными в таких случаях руганью и ссорами под девизом «а вас здесь не стояло». В больших городах, наверняка, такого не было, а на нашу провинцию власти особого внимания не обращали. Хрущев, который, наверняка, сделал для страны много хорошего, допустил колоссальное вредительство, подарив Украине Крым, что аукается до сих пор. Дело, скорее всего, не только в самом Хрущеве, а в системе управления, существовавшей в то время. Страна наша считалась и называлась советской (наверное, от слова советоваться), а по факту у первого руководителя прав было больше, чем у любого монарха.
В 1963 году я поступил в 9 класс, в котором появился новый предмет «обществоведение», на котором мы стали подробно изучать пути построения коммунизма в нашей стране. Была поставлена так называемая «триединая задача», выполнив которую, мы бы оказались, как нам объясняли, в коммунизме, в котором от каждого – по способностям, и каждому – по потребностям. Две из этих трех задач до сих пор сохранились в памяти. Это создание материально-технической базы коммунизма и воспитание нового человека. Мы тогда, как мне сейчас кажется, на тему будет ли коммунизм, не задумывались. Скорее всего, не верили, но прямо этого не говорили. В 1964 году Хрущева неожиданно отправили на пенсию, но у нового руководства станы не хватило духу сказать напрямую, что строительство коммунизма откладывается на неопределенный период. А мы продолжали изучать то, что написали в учебниках. Помнится, уже в институте, скорее всего в 1967 году, на занятиях по английскому языку нам – студентам было дано задание перевести моральный кодекс строителя коммунизма на английский язык. Преподаватель Сергей Иванович дал каждому студенту по одному пункту кодекса. Мне достался какой-то пункт с англоязычным словом «preservation». О чем там было – не помню. По факту игра в коммунизм продолжалась до середины восьмидесятых годов. Организовывались бригады коммунистического труда, которые в народе в шутку называли «бригадами кому нести чего куда», присваивались звания «ударник коммунистического труда» и т.д. Триединую задачу выполнить не удалось, несмотря на то, что некоторые вещи, направленные на воспитание нового человека, успешно функционировали. Например, оплата проезда в общественном транспорте без кондукторов, когда пассажиры, заплатив деньги в кассу, сами отрывали себе билетик. Всё это благополучно умерло где-то, как мне помнится в девяностые годы.
В школе нас – учеников, начиная то ли с четвертого, то ли пятого классов, каждый год в сентябре направляли копать картошку в ближайшие колхозы и совхозы. Как-то отложилось в памяти, что чаще всего ездили в колхоз «имени Парижской коммуны». Возили нас на грузовых машинах, поэтому мы старались одеться потеплей с учетом того, что в сентябре по ночам обязательно были заморозки, а днем тепло, и даже жарко. Следует особо отменить, что климат в Тулуне резко континентальный. Годовой температурный градиент (разница между летним максимумом и зимним минимумом) составляет целых 90 градусов. Суточные перепады температуры также очень большие. Когда летом ездили на рыбалку с ночёвкой, всегда брали с собой теплые вещи. Днем – жарища, а ночью очень даже прохладно. Поездки на картошку для нас никаких трагедий не представляли, так все дети к такому труду были привычны. Наоборот, было хорошо и весело. Обязательно был обед, который готовили на костре учительницы. Даже как-то были вкусняшки в виде ложки мёда, положенной на кусок хлеба. И не нужно было в эти дни делать домашних заданий.

