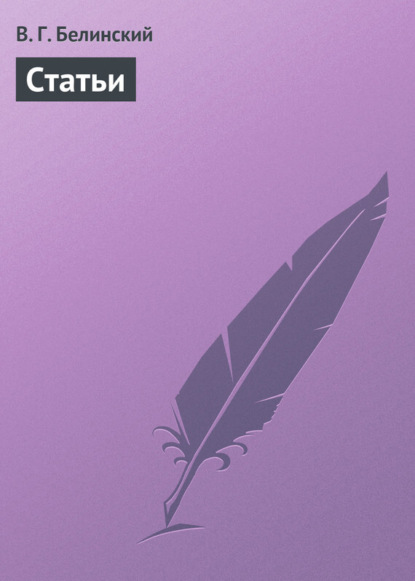 Полная версия
Полная версияСтатьи
Из иностранных замечательных романов в «Современнике)) и в «Отечественных записках» была переведена «Лукреция Флориани» (о ней было уже говорено в нашем журнале) и продолжается переводом: «Торговый дом под фирмою Домби и сын»; когда этот превосходный роман, далеко оставивший за собою все прежние произведения Диккенса, появится весь в русском переводе, мы поговорим о нем.
К разряду словесности принадлежат записки или воспоминания былого. В «Современнике» были помещены две интересные статьи такого рода: «Из записок артиста», – на, и «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель», г. Л. Тут же упомянем мы о прекрасной, интересной по содержанию и изложению статье г. Небольсина: «Рассказы о сибирских золотых приисках», которая так долго тянулась в «Смеси» «Отечественных записок», «Письма об Испании» (в «Современнике») г. Боткина были неожиданно приятною новостью в русской литературе. Испания для нас – терра инкогнита (terra incognita – неведомая земля (лат.)). Политические известия только сбивают с толку всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой земли. Главная заслуга автора писем об Испании состоит в том, что он на все смотрел собственными глазами, не увлекаясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в книгах, журналах и газетах; вы чувствуете из его писем, что он сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и изучил, и потом уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его на нее нов, оригинален, и все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какою-нибудь фантастическою, а с действительно существующею страною. Увлекательное изложение еще более возвышает достоинство писем г. Боткина. «Письма из Avenue Marigny» (Авеню Мариньи (фр.)) были встречены некоторыми читателями почти с неудовольствием, хотя в большинстве нашли только одобрение. Действительно, автор невольно впал в ошибочность при суждении о состоянии современной Франции тем, что слишком тесно понял значение слова: bourgeoisie (буржуазия (фр.)). Он разумеет под этим словом только богатых капиталистов и исключил из нее самую многочисленную и потому самую важную массу этого сословия… Несмотря на это, в «Письмах из Avenue Marigny» так много живого, увлекательного, интересного, умного и верного, что нельзя не читать их с удовольствием, даже во многом не соглашаясь с автором. В этот же разряд статей смешанного содержания, но по форме принадлежащих более к отделу словесности, отнесем мы: «Новые вариации на старые темы» Искандера (в «Современнике»); «Рассказы» г. Ферри (там же); «Странствования португальца Фернанда-Мендеза Пинто, описанные им самим и изданные в 1614 году», перевод с старинного португальского языка г. Бутакова, и «Антонио Перес и Филипп II», соч. Минье (в «Отечественных записках»).
В прошлом году журналы наши были особенно богаты замечательными учеными статьями. Назовем здесь главнейшие. В «Отечественных записках»: «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» (три статьи); «Физико-астрономическое обозрение солнечной системы» Д.М. Перевощикова; «Северо-Американские Соединенные Штаты» (три статьи); «Открытие Генке и Леверье» Д.М. Перевотцикова; «Причины колебания цен на хлеб» А.П. Заблоцкого. В «Современнике»: «Взгляд на юридический быт древней России» К.Д. Кавелина; «Исследование об элевсинских таинствах» графа С.С. Уварова; «Даниил Романович король Галицкий» С.М. Соловьева; «Важность и успехи физиологии» К. Литре; «Опыт общеполезного рассказа о том, как открыта новая планета Нептун» А. Савича; «Константинополь в IV веке»; «О возможности определительных мер доверия к результатам наук наблюдательных, и в особенности статистике» академика Буняковского; «Государственное хозяйство при Петре Великом» (две статьи) А. Афанасьева; «Мальтус и его противники» В. Милютина; «Александр фон-Гумбольдт и его космос» (две статьи) Н.Г. Фролова; «Ирландия» Н. Сатина. В «Библиотеке для чтения» тянулась с лишком полгода очень любопытная статья под названием: «Путешествия и открытия лейтенанта Загоскина в русской Америке», вышедшая теперь отдельной книгой под другим заглавием.
Статья г-на Кавелина: «Взгляд на юридический быт древней России» и статья г-на Заблоцкого: «О причинах колебания цен на хлеб в России» без сомнения принадлежат к замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошлого года. Чрезвычайно замечательны также в своем роде статьи г-на Порошина, печатавшиеся в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Мы не пересчитываем здесь сочинений разного рода, вышедших в прошлом году отдельными книгами, потому что большая часть их разобрана в критике и библиографии «Современника», а остальные поименованы в «Библиографических известиях», приложенных к VII и XII-м книжкам «Современника» прошлого года…
Из критических статей прошлого года замечательны на следующие книги: «Историко-критические отрывки» г. Погодина; «Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории»; «Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете»; «Еврейские религиозные секты в России» г. Григорьева; «Сочинения Фонвизина», изд. Смирдиным (в «Отечественных записках»). Две последние статьи, кроме своего внутреннего и внешнего достоинства, особенно интересны еще тем, что принадлежат автору, до сих пор нигде не писавшему. В статьях г. Дудышкина видно знание дела; он хорошо пользуется историческим изучением развития, чтобы объяснять им литературные произведения данной эпохи. Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в длинноте и многословии; иногда в такой статье почти ничего не говорится о книге, на которую она написана, но насказано много иногда и хорошего, но всегда некстати о предметах, вовсе чуждых разбираемой книге. Г-н Дудышкин умел избегать этих недостатков; видно, что он взялся за дело с готовым уже содержанием в голове, вполне владеет своею мыслию, не дает ей разбегаться или увлекать его то в ту, то в другую сторону, но постоянно держит ее на данном предмете и оттого начинает с начала и оканчивает в конце, говорит в меру и потому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пишет. Мы не можем говорить обо всех критических статьях, напечатанных в «Современнике» прошлого года: близость к этому журналу некоторых лиц, которым принадлежат статьи, не позволяет нам этого. II потому мы должны только ограничиться указанием па статьи: «Последние романы Жоржа Санда» г. Кронеберга; «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году» г. Грановского; «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии», соч. г. Бутовского (три статьи г. Милютина); статья г. Кавелина об «Истории отношений между князьями Рюрикова дома», соч. С. Соловьева. Заметим к этому, что «Современник» представлял постоянно полные отчеты о всех замечательных явлениях по части русской истории. Но вместе с этим «Современник» должен сказать, что, по причинам, вовсе не зависящим от редакции, он в других отношениях не совсем соответствовал ожиданию публики по части критики. Но в нынешнем году он надеется дать этому отделу гораздо больше полноты и развития.
Русская критика стоит теперь на более прочном основании: она уже не в одних журналах, но и в публике вследствие все более и более развивающегося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать развитию самой критики: она уже дело, подлежащее суду общественного мнения, а не книжное, не имеющее связи с жизнию занятие. Теперь уже но всякому можно быть критиком, кому только вздумается, не всякое мнение примется потому только, что оно печатное. Пристрастие партий не может уже убить хорошей книги и дать ход дурной. В критике нынешней часто слышится убеждение, и люди, вовсе его не имеющие, стараются по крайней мере прикрываться им. Борьба мнений, выражающаяся в критике, свидетельствует, что русская литература только быстро подвигается к совершеннолетию, но еще не достигла его. Конечно, везде есть люди, которые как будто самою природою назначены всех затрогивать, ко всем прицепляться, всех хулить, беспрестанно заводить ссоры, шум, брань. Кроме природной наклонности, ничем не победимой, их побуждает к этому и раздраженное самолюбие, и мелкие личные интересы, нисколько не относящиеся к литературе. Такие люди – всюду зло неизбежное, плюющее даже свою полезную сторону: эти люди добровольно берут на себя ту роль перед обществом, которую спартанцы заставляли играть илотов перед своими детьми… Но странно и прискорбно, что в тон этих людей беспрестанно впадают люди, по-видимому не имеющие ничего с ними общего, действующие как будто на основании каких-то дорогих им убеждений, наконец, люди, своим общественным положением, летами, известностью обязанные подавать в литературе пример хорошего тона и уважения к приличию. Вот несколько самых свежих примеров. В 1 N «Сына отечества» за прошлый год был напечатан разбор лекций г. Шевырева. В этой статье было сказано и доказано, что труд г. Шевырева – «прекрасный замок, построенный из облаков; очаровательная утопия, обращенная назад». Это относится более к теоретической части лекций; в фактической же рецензия видит только компиляцию. Рецензент «Сына отечества» скрыл свое имя, но не скрыл своей учености, своего знакомства с византийскими и болгарскими источниками. Поэтому статья его так сильно подействовала на г. Шевырева, что он не прежде, как через год, нашелся в состоянии отвечать на нее.
Чем сильнее было нападение на г. Шевырева, тем больше достоинства должно было ожидать от его защищения. Так ли поступил г. Шевырев? Прежде всего он изъявил свое неудовольствие, что критик «Сына отечества» скрыл свое имя, как будто бы тут дело идет об именах, а не о науке, не об идеях, не об убеждениях. Вероятно, под влиянием своего неудовольствия на эту досадную ему безыменность г. Шевырев ни с того, ни с сего напал на г. Надеждина. Он называет его иронически «сей ученый муж», «высокоученым филологом», глумится над его мнениями о славянских наречиях, нимало не подозревая, что его аттическая соль сильно сбивается на славянский бузун. Можно и должно опровергать чужие мнения, если они вам кажутся несправедливыми; но это следует делать, во-первых, кстати, во-вторых, с уважением к приличию. Г-ну Шевыреву не худо было бы не забывать, что он ученый, что он в русской литературе пользуется по крайней мере двадцатилетнею известностию, и что все это обязывает его быть для молодых литераторов примером положительным, а не отрицательным. Не мешало бы также г. Шевыреву вспомнить, что г. Надеждин некогда был его товарищем по университету, таким же, как он, профессором. Но г. Шевырев вовсе лишен того литературного спокойствия, которое составляет силу людей, развившихся наукою и опытом жизни; он, напротив, в литературе беспокоен и тревожен и оттого беспрестанно вдается в крайности и промахи, свойственные молодым людям, только что бросившимся в литературную деятельность с школьной скамьи. Вот еще пример: говоря об известном бывшем сотруднике «Отечественных записок», работающем теперь в «Современнике», г. Шевырев позволил сказать себе о нем, что он «изменил знаменам «Отечественных записок»»! Не есть ли эта фраза следствие тревожного и раздражительного состояния, о котором мы говорили? Неужели г. Шевырев сам верит своим словам? Нет, ему хотелось кольнуть противника, и он забыл, что колют правдой, а не вымыслом. Человек, о котором он говорит, сделал дело очень естественное: он счел за удобнейшее и лучшее для себя помещать свои статьи в другом журнале и на это имел полное право, потому что не считает себя прикрепленным ни к какому журналу. К числу таких же его выходок принадлежит и беспрестанно повторяемая многими мысль, будто бы Гоголь отречением от своих прежних сочинений поставил нас в затруднительное положение, так что мы не знаем, что и делать Больше году прошло после появления этой книги, мы уже несколько раз говорили о сочинениях Гоголя в том же духе, в каком говорили о них до появления его книги. Вообще мы всегда хвалили сочинения Гоголя, а не самого Гоголя; хвалили их ради их самих, а не ради их автора. Его прежние сочинения и теперь для нас то же, чем были и прежде; нам нет нужды до того, что теперь думает Гоголь о своих прежних сочинениях. Но еамая болезненная выходка г. Шевырева касается Искандера: крайне неспокойное отношение духа г. Шевырева к этому автору заставило его взять на себя тон вовсе не литературный; он выписал из романа «Кто виноват?» все фразы и слова, в которых ему захотелось увидеть искажение русского языка. Некоторые из этих фраз и слов действительно могут быть подвергнуты осуждению, но большая часть доказывает только нелюбовь г. Шевырева к Искандеру. Не понимаем, когда находит г. Шевырев время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбия только известного блаженной памяти профессора элоквенции и хитростей пиитических! А что, если кому-нибудь придет в голову мысль выписывать из статьи г. Шевырева целые периоды вроде следующего: «А что теперь ИНОЙ русской душе, не понимающей настоящего смысла древней русской жизни, кажется исключительно византийским и каким-то мистическим и теоретическим мудрованием, и «даже мелочным умозрением», то, что в себе содержит самые простые и высочайшие истины,
так это ничего другого не значит, как только то, что та русская душа расторгла союз с коренными основами жизни русского народа и уединилась в свою отвлеченную личность, из тесных рамок которой видит собственно своп призраки, а не дело». Впрочем, в таком периоде мы не можем видеть искажение русского языка, а видим только искажение языка г. Шевырева, и, конечно, в этом отношении к Искандеру надо быть строже, как к писателю с влиянием; но все-таки придираться к таким мелочам – значит обнаруживать больше нелюбви к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе, и грозить издалека своему противнику шпилькой пли булавкой, когда нет возможности достать его копьем.
В прошлом году внимание критики было преимущественно занято «Перепискою Гоголя с друзьями». Можно сказать, что память об этой книге и теперь поддерживается только статьями о ней. Лучшая из статей против нее принадлежит Н.Ф. Павлову. В своих письмах Гоголю он стал на его точку зрения, чтоб показать его неверность собственным своим началам. Тонкость мысли, ловкость диалектики, при изложении в высшей степени изящном, делают письма Н.Ф. Павлова явлением образцовым и совершенно особым в нашей литературе. Жаль, если все дело кончится тремя письмами!
Известный книгопродавец наш, г. Смирдин, своими изданиями русских авторов приготовил и намерен еще больше приготовить труда и хлопот русской критике. Он уже издал Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озерова, Кантемира, Хемшщера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. В одной газете было говорено о скором выходе в свет сочинений Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Там же уверяли, что вслед за ними поступят в печать: «История государства Российского» Карамзина, сочинения императрицы Екатерины II, сочинения Сумарокова, Хераскова, Тредьяковского, Кострова, князя Долгорукова, Капниста, Нахимова, Нарежного, – и что сверх того приступлено к приобретению права на издание сочинений Жуковского, Батюшкова, Дмитриева, Гнедича, Хмельницкого, Шаховского и Баратынского. Довольно работы критике! Пусть каждый выскажет свое мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно. Опровергайте чужие мнения, не согласные с вашими, но не преследуйте их с ожесточением потому только, что они противны вам; не старайтесь выставлять их в невыгодном для них свете не в литературном отношении. Это плохой расчет: желая выиграть больше простору вашим мнениям; вы, может быть, этим самым лишите их всякой почвы.
Впервые опубликовано: «Современник», 1848, т. VII, N 1, отд. III «Критика и библиография», с. 1 – 39.Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник. О В.Г. БелинскомПисьмо Николаю Васильевичу Гоголю
20 апреля 1842. ПетербургМилостивый государь Николай Васильевич!Я очень виноват перед Вами, не уведомляя Вас давно о ходе данного мне Вами поручения. Главною причиною этого было желание – написать Вам что-нибудь положительное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время Ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, как Вы были в Питере. Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, – то все же можно наверное сказать, что только в китайской Москве могли поступить с Вами, как поступил г. Снегирев, и что в П(итере) этого не сделал бы даже Петрушка Корсаков, хоть он и моралист и пиетист. Но теперь дело кончено, и говорить об этом бесполезно.
Очень жалею, что «Москвитянин» взял у Вас все и что для «Отечественных записок» нет у Вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не Вашей доброй воли или Вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и в невыгоду «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова – и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин» Вашими сочинениями – и лишает их «Отечественные записки». Я не так самолюбив, чтобы «Отечественные записки» считать чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; но я далек и от ложной скромности – бояться сказать, что «Отечественные записки» теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и – смею думать – умное мнение, и что «Отечественные записки» ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села Поречья. Но потому-то, видно, им и то же счастие: не изменить же для «Отечественных записок» судьбе своей роли в отношении к русской литературе.
С нетерпением жду выхода Ваших «Мертвых душ». Я не имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в «Отечественных записках» была обещана статья о «Ревизоре»; думаю по случаю выхода «Мертвых душ» написать несколько статей вообще о Ваших сочинениях. С особенною любовию хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более, что я виноват перед ними: во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на Ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изрыгаю хулу на духа. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же па мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием. Вообще, мне страх как хочется написать о Ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости; но – слава Богу – я, вместе с этим, одарен и движимостию вперед и способностию собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностию, как и чужие грехи. И потому надумалось во мне много нового с тех пор, как в 1840 г. в последний раз врал я о Ваших повестях и «Ревизоре». Теперь я понял, почему Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; понял, почему «Старосветских помещиков» считаете Вы лучшею повестью своею в «Миргороде»; также понял, почему одни Вас превозносят до небес, а другие видят в Вас нечто вроде Поль де Кока, и почему есть люди, и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть Ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что Вы выше Марлинского и что Ваш талант – великий талант. Объяснение всего этого даст мне возможность сказать дело о деле, не бросаясь в отвлеченные и окольные рассуждения; а умеренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине) даст многим возможность сознательно полюбить Ваши сочинения. Конечно, критика не сделает дурака умным и толпу мыслящею; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство, а у других – возбудить мыслию спящий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня может быть только Ваше внимание и Ваше доброе, приветливое слово. Я не заношусь слишком высоко, но – признаюсь – и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и – что еще лестнее – имел счастие приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин. После этого Вы поймете, почему для меня так дорог Ваш человеческий, приветливый отзыв…
Дай Вам Бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю Вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь один, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустною отрадою буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома…
Хотелось бы мне сказать Вам искренно мое мнение о Вашем «Риме», но, не получив предварительно позволения на откровенность, не смею этого сделать.
Не знаю, понравится ли Вам тон моего письма, – и даже боюсь, чтоб он не показался Вам более откровенным, нежели сколько допускают то наши с Вами светские отношения; но не хочу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае, противном моему ожиданию, легко утешусь, сложив всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературе.
С искренним желанием Вам всякого счастия, остаюсь готовый к услугам Вашим
Виссарион Белинский.СПб. 1842. Апреля 20.Опубликовано: Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. Письма 1829–1848 годов. М.: Худож. лит., 1982.Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник.Примечания
1
Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье.
2
Автономия есть право предмета, основанное не на внешних уважениях, как-то: пользе, предании (traditio) или постороннем авторитете, но на сущности самого предмета. Впрочем, это слово довольно удовлетворительно объяснено даже в русском «Энциклопедическом лексиконе». Любопытные Могут справиться в первом его томе.
3
Заметим для большей ясности и точности, что, говоря об обществе, мы разумеем только чувствующих и мыслящих людей нового поколения.
4
Повторяем, что слово «субъективность» здесь принимается в смысле внутреннего элемента духа, а не выражения ограниченной личности, как понимали его прежде.
5
Хотя, конечно, именно ты являешься автором этой прелестной поэмы, было бы дерзостью с твоей стороны подписать ее твоим именем, Богданович! Правильнее подписать ее именем Аполлон (фр.)
6
Поэт нашего времени вместо «с невестою младой» сказал бы: с «невестой молодой», – и оно, разумеется, было бы лучше; но во время Батюшкова большую полагали красоту в славянизме слов, считая его особенно приличным для так называемого «высокого слога».
7
Эпитет «засеянного костьми» неточен в отношении к Тибру: это можно было сказать только о холмах, на которых построен Рим или о земле Италии вообще.
8
А также отчасти и в переводе «Суда в подземелье».
9
Это, равно как и выписанное нами стихотворение: «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу», не удостоились чести попасть в том IX-й полного собрания сочинений Пушкина, по смерти его изданных.
10
Соч. А. Пушкина, т. XI, стр. 226.
11
«Горе от ума было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано вчерне. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе «Талия», в 1825 году. Первая глава «Онегина» появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы.
12
См. «Современник» 1836 г. Т. III, стр. 109.
13
«Современник» 1836. Т. III, стр. 94.
14
«Северные цветы на 1830 год, стр. 228.
15
«Телескоп» 1831. Т. IV, стр. 135.



