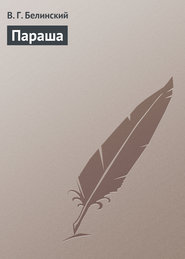 Полная версия
Полная версияПараша

Виссарион Григорьевич Белинский
Параша
Теперь, когда Лермонтова уже нет, а прекрасное дарование г. Майкова пока не обещает итти дальше антологического рода, – поэзия русская если не умерла, то уснула, как это всегда с нею бывает, как скоро тот, кому дано свыше быть ее покровителем, или скончается во цвете лет, или изменит надеждам, которые подаст о себе. Теперь стихи встречаются только в журналах; между ними попадаются и такие, в которых есть чувство и заметно большее или меньшее дарование; но они все лишены присутствия могучей мысли. А так как поэзия русская давно уже пережила свой период прекрасных чувств и сладостных мечтаний, и еще с Пушкина начала период мысли, – то теперь проходят мимо внимания публики такие стихотворения, которыми прежде легко было бы в один день стяжать славу великого гения. Другими словами: могучим властителем душ нашего времени уже перестали быть «стишки» – в потребности публики их сменила поэзия мысли. Это особенно стало заметно после Лермонтова. Вот почему, если теперь и нельзя пожаловаться на бедность в стихотворных произведениях, то нельзя и сказать, чтоб было что читать по этой части. День появления в журнале неизвестного стихотворения Лермонтова – теперь эпоха в истории русской литературы: стихотворение читают, перечитывают, списывают, вытверживают напамять. Стихотворения, не принадлежащие Лермонтову, тоже прочитывают, даже похваливают, но с тем, чтоб совершенно забыть их по выходе новой книжки журнала. Многие заключают из этого, что вместе с Лермонтовым умерла и русская поэзия. Что касается до нас, мы не разделяем этого мнения и думаем, что русская поэзия не умерла, а только уснула, по обыкновению, и что по временам она будет просыпаться и рассказывать нам свои прекрасные сны – до тех пор, пока не явится на Руси новый поэт…
Небольшая книжка, на-днях появившаяся в Петербурге под скромным названием «рассказа в стихах», есть именно один из таких прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии, какие давно уже не виделись ей. Уверенные в глубоком сне нашей поэзии, мы взялись за «Парашу» с явным предубеждением, думая найти в ней – или сентиментальную повесть о том, как он любил ее, и как она вышла замуж за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современных нравах, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивление, когда вместо этого прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеею, полнотою внутреннего содержания, отличающуюся юмором и ирониею!.. Однакож, несмотря на то, уверенность наша в тяжелом сне русской поэзии была так велика, что мы не поверили первому впечатлению и прочли снова, – еще лучше! И теперь, когда, от многократно повторенного чтения, мы почти знаем наизусть прекрасное поэтическое произведение, так неожиданно, так отрадно освежившее душу нашу от прозы и скуки ежедневного быта, – спешим познакомить публику с явлением, которое имеет полное право на ее внимание.
Хотя автор «Параши», скрывший свою фамилию под литерами Т. Л., и обозначил свое произведение скромным именем «рассказа в стихах», однако оно тем не менее – «поэма», в том смысле, какой усвоен Пушкиным произведениям такого рода. Итак, мы будем называть «Парашу» поэмой: оно и короче, и гораздо справедливее, если вспомнить, что «Чернец», «Эдда», «Наталья Долгорукая», «Борский» и тому подобные стихотворные рассказы величались поэмами.[1] Содержание «Параши» в смысле «сюжета» до того просто и немногосложно, что его можно рассказать в двух словах: на уездной барышне женится помещик-сосед, – вот и все. Но это не содержание, а только канва содержания; само же содержание поэмы так полночи богато, что его нельзя передать во всей его жизни и во всей благоуханной свежести его поэзии, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической речи своими поэтическими стихами.
Прежде всего мы должны обратить внимание читателей на эпиграф поэмы из Лермонтова:
И ненавидим мы и любим мы случайно.[2]Этот эпиграф выбран автором не в исполнение давно заведенного обычая заманивать любопытство читателей загадочным смыслом чужой речи; нет, стих Лермонтова, как мы увидим, находится в живой связи со смыслом целой поэмы и столько служит объяснением поэме, сколько и сам объясняется ею.
Поэма начинается описанием помещичьего дома с безобразною наружностью, с садом, похожим на огород, но с гротом, который любила посещать героиня поэмы.
Ее отец – помещик беззаботный,Сперва служил – и долго; наконецВ отставку вышел – и супругой плотнойОбзавелся; теперь большой делец!Живет в ладу с своими мужичками…Он очень добр и очень плутоват,Торгуется и пьет чаёк с купцами.Как водится, его супруга – клад;О, сущий клад! и умница такая!А женщина она была простаяС лицом, весьма похожим на пирог;Ее супруг любил как только мог.Дочери этой достойной четы никто не назвал бы красавицею, но она была стройна, походка ее была легка и плавна, прекрасная нога ловко обута, и если рука была немного велика, зато пальцы были прозрачны и тонки.
Ее лицо мне нравилось… оноЗадумчивою грустию дышало;Всегда казалось мне: ей сужденоСтраданий в жизни испытать не мало…И что ж? мне было больно и смешно:Ведь в наши дни спасительно страданье…Но глаза больше всего в Параше нравились автору —
Взгляд этих глаз был мягок и могуч,Но не блестел он блеском торопливым;То был он ясен, как весенний луч,То холодом проникнут горделивым,То чуть блистал, как месяц из-за туч.Но взгляд ее, задумчиво спокойный,Я больше всех любил: я видел в немВозможность страсти горестной и знойной —Залог души, любимой божеством.Она была не без странностей, свойственных «уездным барышням»; но не имела ничего общего с восторженными девицами, мечтательницами и охотницами до сладеньких стишков:
Она была насмешлива, горда,А гордость – добродетель, господа…Здесь мы находимся в большом затруднении: поэт так увлекательно, так поэтически описывает внутреннюю тревогу девственной души своей героини, что нам совестно было бы пересказывать это нашею убогою прозою, а выписывать стихи – значит переписать всю поэму… Но это так хорошо, что нет возможности не выписать.
. . . . Каждый день,Я вам сказал – она в саду скиталась;Она любила гордый шум и теньСтаринных лип – и тихо погружаласьВ отрадную, забывчивую лень.Так весело качалися березы,Облитые сверкающим лучом…И по щекам ее катились слезыТак медленно – бог ведает о чем.То подойдя к убогому забору,Она стояла по часам… и взоруТогда давала волю… но глядит,Бывало, все на бледный ряд ракит.Там, через ровный луг, от их селаВерстах в пяти, дорога шла большая;И как змея свивалась и ползла,И дальний лес украдкой обгибая,Ее всю душу за собой влекла.Озарена каким-то блеском дивным,Земля чужая вдруг являлась ей…И кто-то милый голосом призывнымТак чудно пел и говорил о ней.Таинственной исполненные муки,Над ней, звеня, носились эти звуки…И вот, искал ее молящий взорДругих небес – высоких, пышных гор,И тополей, и трепетных олив…Искал земли пленительной и дальней…Вдруг русской песни грустный переливНапомнит ей о родине печальной;Она стоит, головку наклонив,И над собой дивится – и с улыбкойСебя бранит; и медленно домойПойдет вздохнув… то сломит прутик гибкой.То бросит вдруг… рассеянной рукойДостанет книжку – развернет, закроет,Любимый шепчет стих… а сердце ноет,Лицо бледнеет… в этот чудный часЯ, признаюсь, хотел бы встретить вас,О, барышня моя!.. В тени густойШироких лип стоите вы безмолвно;Вздыхаете; над вашей головойСклонилась ветвь… а ваше сердце полноМучительной и грустной тишиной.На вас гляжу я: прелестью степноюВы дышите – вы нашей Руси дочь…Вы хороши, как вечер пред грозою,Как майская томительная ночь.Кто получил от природы благодатную способность понимать поэзию как поэзию – не в одних стихах, не в одних книгах, но и в жизни, и в природе, те согласятся с нами, что в этом отрывке каждое слово так и дышит всею роскошью, всем обаянием истинной поэзии.
Есть два рода поэзии: одна, как талант, происходит от раздражительности нерв и живости воображения; она отличается тем блеском, яркостию красок, тою резкою угловатостию форм, которые мечутся в глаза толпе и увлекают ее внимание. Чем более, повидимому, заключает в себе такая поэзия, тем пустее она внутри самой себя, ибо она вся в воображении и ничего общего с действительностию не имеет; мысли ее похожи на громкие слова и звучные фразы, а картины ее похожи только до тех пор, пока смотришь на них: отведите глаза, и в вашем воображении не останется никакого образа, никакого созерцания, никакого представления. – Другая поэзия, как талант, имеет своим источником глубокое чувство действительности, сердечную симпатию ко всему живому, а потому ее чувства всегда истинны, ее мысли всегда оригинальны, даже не будучи новыми, ибо они не пойманы извне и на лету, а возникли и выросли в душе поэта. Произведения такой поэзии не бросаются в глаза, но требуют, чтоб в них вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубине своей их простая, тихая и целомудренная красота. Печать оригинальности составляет их неразлучную принадлежность; она есть следствие способности схватывать сущность, а следовательно, и особенность каждого предмета. И потому описания ее запечатлены достоверностию, так что, если б вы и никогда не видывали описываемого предмета, вы тем не менее убеждены, что он точно таков и другим быть не может. Разбираемая нами поэма может служить образцом таких произведений. Вот вам картина неаполитанского лета:
Прежаркий день – но вовсе не такой,Каких видал я на далеком юге:Томительно глубокой синевойВсе небо пышет; как больной в недуге,Земля горит и сохнет; под скалойСверкает море блеском нестерпимым —И движется, и дышит, и молчит…И все цвета под тем неутомимым,[3]Могучим солнцем рдеют… дивный вид!А вот, зарывшись весь в песок блестящий,Рыбак лежит, и каждый проходящийЛюбуется им с завистью – я самИм тоже любовался по часам.В этих тринадцати стихах такая полная картина, что вам ничего не остается ожидать к ее дополнению, хотя в то же время вы знаете, что тысячи других поэтов могли бы ту же картину представить вам совсем иначе, совсем другими словами. Природа неистощима в своем разнообразии, и дело не в том, чтоб поэзия представляла ее в сколько можно обширных и сложных картинах, а в том, чтоб она умела схватить особенность каждого ее явления. Лето – везде лето: везде от него и жарко, и душно, и пыльно; но в Неаполе – свое лето, в России – свое. Первое вы сейчас видели; вот второе:
У нас не то, хоть и у нас не радБываешь жару… точно, жар глубокий,Гроза вдали сбирается, трещатКузнечики неистово в высокойСухой траве; в тени снопов лежатЖнецы; носы разинули вороны;Грибами [4] пахнет в роще; там и сямСобаки лают; за водой студенойИдет мужик с кувшином по кустам.Тогда люблю ходить я в лес дубовый,Сидеть в тени спокойной и суровой,Иль иногда под скромным шалашомБеседовать с разумным мужичком.В такой-то день Параша встретилась с охотившимся молодым человеком. Мы пропускаем большую часть прекрасно изложенных поэтом подробностей этой встречи. Скажем только, что охотник начал свой разговор с Парашею не восклицанием: «о, дева чудная!» или другою какою-нибудь пошлостию в этом роде, но адресовался к ней с очень простым вопросом: «умоляю вас, скажите, который теперь час?»; потом: «чей это дом?» а там объявил ей, что его покойный дед был очень дружен с ее отцом.
Портрет незнакомца превосходно очерчен автором. Это один из тех великих маленьких людей, которых теперь так много развелось и которые улыбкою презрения и насмешки прикрывают тощее сердце, праздный ум и посредственность своей натуры. Он был за границею и вынес оттуда множество бесплодных слов и сомнений… У некоторых журналов теперь вошло в манию нападать на таких путешественников, и они с торжеством указывают на них, как на живое доказательство, что нечего за добром ездить на Запад. Автор «Параши» думает об этом иначе, и, соглашаясь с ним, мы вдруг вспомнили сказку, некогда переведенную Жуковским, «Кабуд путешественник»… К особенностям героя поэмы принадлежит и то, что, будучи влюбчивым, он был спокоен и горделив, а потому и счастлив в женщинах, удачно обманывая и таких между ими, которых сам не стоил; еще: не будучи особенно умным, он вполне владел умом, дарованным ему от бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться перед знатью, автор очень остроумно признается в том, что любит пустой блеск большого света, не увлекаясь им и смотря на него без желания; он очень остроумно подшучивает над моральными выходками против большого света непризнанных, бесхвостых львов и львиц, то есть людей, которые бранят большой свет за то, что тот не хочет их знать. Люблю, говорит автор,
Люблю я пышных комнат стройный ряд,И блеск, и прихоть роскоши старинной…А женщины… люблю я этот взглядРассеянный, насмешливый и длинный;Люблю простой, обдуманный наряд…Я этих губ люблю надменный очерк,Задумчиво приподнятую бровь,Душистые записки, быстрый почерк,Душистую и быструю любовь;Люблю я эту поступь, эти плечи,Небрежные, заманчивые речи…«Но (скажут мне) вне света никогдаВы не встречали женщины прекрасной?»Таких особ встречал я иногдаИ даже в двух влюбился очень страстно;Как полевой цветок, они всегдаТак милы – но, как он, свой легкий запахОни теряют вдруг… и, боже мой,Как не завянуть им в неловких лапахЧиновника, довольного собой?Эти стихи не обойдутся автору даром; его объявят за них «аристократом», скажут, что внешний блеск предпочитает он душе и сердцу, и т. п. По обыкновению, в этом случае, ему припишут то, чего он и не думал, и горячо будут оспоривать его в том, чего он не говорил. Дело тут идет не о душе и сердце: поэт говорит совсем не о внутренней святыне женщины, а о ее поэтической внешности, которою могут не дорожить только натуры сухие и грубые. Поэзия формы, изящество внешности, столь очаровательные в женщине, могут почесться исключительными явлениями вне большого света. Женщины других кругов общества смотрят на красоту и изящество, как на средство поскорее выйти замуж. Достигнув этой вожделенной цели, они скоро перестают и петь, и плакать, и читать сладенькие стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; они предаются прозе жизни, скоро полнеют, пристращаются к утреннему дезабилье, забывают музыку, луну, стихи, мечту и т. д. Оттого до замужества почти каждая из них – ангел доброты, дева чудная, неземная, идеальная, Полина или Надина, а после замужества – солидная дама с весом в обществе, женщина с характером, Палагея Петровна и Надежда Алексевна. Тут есть и другая причина. Юность сама по себе есть уже поэзия жизни, и в юности каждый бывает лучше, нежели в остальное время своей жизни; женщины в особенности. Надо иметь слишком много глубины и силы в натуре, чтоб не охолодеть в прозе жизни, сберечь чувство и душу от холода действительности и сохранить юность сердца и в лета зрелости и в годы старости. Но такие натуры слишком редки, и поэзия юности слишком редко бывает ручательством за поэзию дальнейших возрастов. Брак есть решительная эпоха в жизни мужчины и еще более в жизни женщины: для обоих это – гроб поэзии и колыбель пошлой прозы и очерствения души и чувства. Автор «Параши» превосходно охарактеризовал эпитетом «довольного собой» целый разряд людей, особенно страшных и гибельных для благоуханной поэзии женственных существ. Люди разделяются не только на умных и на дураков: те и другие равно редки, и между ними занимает место огромный разряд пошлых людей. Эти люди по большей части не умны и не глупы, иногда же между ними попадаются люди не без ума и не без способностей; но главное их качество в том и другом случае – довольство самими собою. Эти господа не знают, что такое раскаяние, стремление к идеалу и тоска от невозможности достичь его, что такое горе без несчастия и страдание при хорошем положении дел и добром здоровьи. Как бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ее мужем сделается один из таких господ, ей остаются только две неизбежные дороги: или медленно зачахнуть, или помириться с жизнию, как она есть… Последнее всего чаще случается. В высших кругах общества при этом не исчезает поэзия внешности, и наряд остается навсегда обдуманно прост, взгляд рассеян, насмешлив и долог, и любовь душиста и быстра, как записки и почерк; но в средних кругах общества внешняя пошлость верно отражает внутреннюю, и милые полевые цветки быстро вянут в неловких лапах довольного собою чиновника.
На другой день в доме отца Параши ждут гостя. Старик надел фрак; дочь в тайном волнении; ее прическа так мила, а перчатки так свежи… Наконец гость является. Он говорит с стариками, очаровывает их; с Парашею ни слова; но все в нем дышало «сознанием внезапного сближения»,
И предаваясь дивной тишине,Он наслаждался страстно и вполне.Поэт даже заставляет его «пылать святым и чистым жаром» и уверяет, что он был любим… Предупреждая сомнение читателей, автор спрашивает их:
Скажите – ваша память мне поможет —Как мне назвать ту страстную тоску,Ту грустную, невольную тревогу,Которая берет вас понемногу…К чему нам лицемерить, о друзья!Ее любовью называю я.Наступает ночь; хозяин приглашает гостя погулять в саду и с своею супругою понемногу отстает от молодой четы. Душа Параши не совсем спокойна, а он не начинает разговора затем, что боится внезапных ощущений и чувствительных порывов, затем, что был смущен своим положением: он клялся в любви только тогда, когда не любил; начиная же чувствовать жар любовной лихорадки, он зарывал свою любовь, как клад. Жаль! прелестные читательницы, охотницы до сладеньких стишков и восторженных сцен, верно ожидали тут пламенного объяснения, при луне и звездах; но герой поэмы ужасный прозаик: если он и допускал возможность исключений, то в пошлость верил твердо и всегда, и редко ошибался, а о другом мире не имел никакого понятия… Что же касается до самого поэта, то чувствительные и восторженные читательницы наверное будут им еще менее довольны, нежели героем поэмы, и объявят его человеком без души и сердца, демоном, который не верит любви и презирает прекрасное и высокое… Предоставляем ему самому защищаться против этого грозного суда и обратимся к прерванной нити рассказа.
Сказав, что герою поэмы в саду с уездною барышнею было едва ли отраднее, чем в аду, автор заставляет его постепенно таять и объявляет – влюбленным! Как и почему это сделалось? Поэт удовлетворительно отвечает на эти вопросы:
Во-первых: ночь прекрасная была,Ночь летняя, спокойная, немая:Не светила луна, хоть и взошла;Река, во тьме таинственно сверкая,Текла вдали… Дорожка к ней вела:А листья в тишине толпой незримойЛепечут. Вот они сошли в овраг.И словно их движением гонимый,Пред ними расступался мягкий прах…Противиться не мог он обаянью —Он волю дал беспечному мечтанью,И улыбался мирно, и вздыхал…А свежий ветр в глаза их лобызал.А во-вторых: Параша не молчит,И не вздыхает с приторной ужимкой,Но говорит, и просто говорит.Она так мило движется – как дымкойПрозрачной тенью трепетно облитЕе высокий стан… он отдыхает;Уж он и рад, что с ней они вдвоем, —Заговорил, а сердце в ней пылаетНеведомым, томительным огнем.Их запахом встречает куст незримый,И, словно тоже страстию томимый,Вдали, вдали – на рубеже степей,Гремит, поет и плачет соловей.И может быть, он начал пониматьВсю прелесть первых трепетных движенийЕе души – и стал в нем умирать[5]Крикливый рой смешных предубеждений;Но ей одной доступна благодатьЛюбви простой, и детской, и стыдливой…Нет! о любви не думает она —Но, как листок блестящий и стыдливый,[6]Ее несет широкая волна…Все в этот миг кругом ей улыбалось,Над ней одной все небо наклонялось,И, колыхаясь медленно, траваЕй вслед шептала милые слова…Уезжая домой, наш герой думал про себя: «Я рад соседям… Он человек богатый… дочь у них одна и притом она мила». Думая так, он гнал от себя другие, неуместные мечты, отголоски давно минувших дней… А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь ее изменилась; во сне ей виделся он, а поэту слышится над нею, спящею, какой-то насмешливый голос, который говорит:
«В теплый вечер, в ульях чистыхЗреют светлые соты;В теплый вечер лип душистыхРаскрываются цветы;И тогда [7] по ним слезамиПотечет прозрачный мед —Вьется жадно над цветамиПчел ликующий народ…Наклоняя сладострастноСвой усталый стебелек,Гостя милого напрасноНи один не ждет цветок.Так и ты цвела стыдливо,И в тебе, дитя мое,Созревало прихотливоСердце страстное твое…И теперь, в красе расцвета,Обаяния полна,Ты стоишь под солнцем летаОдинока и пышна.Так склонись же, стебель стройный;Так раскройся ж, мой цветок;Прилетел жених… достойныйВ твой забытый уголок».Однакож странно: почему эти прекрасные стихи так неожиданно сменяются таким прозаическим стихом – с достойным женихом?.. Не забывайте, что эти стихи прозвучал насмешливый голос… Чей же это голос? – Должно быть, сатаны; эта догадка тем основательнее, что сам поэт, вслед за тем, заставляет сатану «поникнуть угрюмою головой над любящей четою». Но не ожидайте сцены обольщения: наш поэт– писатель благонравный, а герой его поэмы не был дон-Хуаном – в этом уверяет нас сам автор:
Мой Виктор не был дон-Хуаном… – ейНе предстояли грозные волненья.«Тем лучше, – скажут мне, – разгул страстейОпасен»… Точно; лучше, без сомненья,Спокойно жить и приживать детей —И не давать, особенно вначале,Щекам пылать… склоняться голове…А сердцу забываться – и так дале.Не правда ль? Общепринятой молвеЯ покоряюсь молча… поздравляюПарашу – и судьбе ее вручаю —Подобной жизнью будет жить она:А кажется, хохочет сатана.Мой Виктор перестал любить давно…В нем сызмала горели страсти скупо;Но впрочем, тем же светом решено,Что по любви жениться – даже глупо.И вот в кого ей было сужденоВлюбиться… Что ж? он человек прекрасный,И – как умеет – сам влюблен в нее;Ее души задумчивой и страстнойСбылись надежды все… сбылося всё,Чему она дать имя не умела,О чем молиться смела и не смела…Сбылося всё… и оба влюблены…Но все ж мне слышен хохот сатаны.Да чему же обрадовался лукавый?.. Не приготовляет ли он измены, ревности, кинжала, яда и других зол, которыми нарушается супружеское счастие?.. Ничего не бывало! Вы правы, чувствительные и восторженные читательницы, говоря, что автор «Параши» – человек прозаический и холодный… В самом деле, оставив сатану, он вдруг извещает вас, что он долго был в отсутствии и лет через пять посетил влюбленных. Четвертый год, как они были супругами, и Виктор как-то странно потолстел; но ее встревожил приход поэта, напомнив ей о прежнем, и она даже сгрустнула и поплакала;
Но грусть замужней женщины смешна.Как ручеек извилистый, но плавный,Катилась жизнь Прасковьи Николавны!Муж ее любил. «Может быть, вы скажете, что он не стоил ее любви?» говорит поэт и отвечает так: «кто знает!»
Но – боже! то ли думал я, когда,Исполненный немого обожанья,Ее душе я предрекал годаСвятого, благодатного страданья!С надеждами расставшись навсегда,Свыкался я с суровым отчужденьем;Но в ней ласкал последнюю мечтуИ на нее с таинственным волненьемГлядел, как на любимую звезду…И что ж? я был обманут так невинно,Так просто, так естественно, так чинно,Что в истине своих желаний яСтал сомневаться, милые друзья.И вот, что ей сулили ночи той,Той летней ночи страстные мгновенья,Когда с такой тревожной быстротойВ ее душе сменялись вдохновенья…Прощай, Параша!.. Время на покой;Перо к концу спешит нетерпеливо…Что ж мне сказать о ней? Признаться вам —Ее никто не назовет счастливойВполне… она вздыхает по часам,И в памяти хранит как совершенствоНевинности нелепое блаженство!Я скоро с ней расстался… и едва льЕе увижу вновь… ее мне жаль…Если и теперь не для всех будет понятен хохот сатаны, то мы, право, не знаем, как и объяснить его… Этот сатана должен быть знаком русским читателям, потому что они встречались с ним и в «Онегине», и в «Горе от ума», и в «Ревизоре», и в повестях Гоголя, и в «Герое нашего времени», и вместе с ним смеялись или грустили над неточным и превратным употреблением разных ежедневно употребляемых слов. В «Параше» навлекло на себя насмешку беса слово «любовь» и неумение многих любить и умение их делать комедию из всякого чувства. Наши юноши и девы в любви всего менее думают о любви, но те и другие ищут в ней счастия, а счастие любви полагают в союзе с ним и с нею. Любовь, как всякое сильное чувство, как всякая глубокая страсть, есть сама себе цель; для любящихся она – долг, требующий служения и жертв, и, предаваясь чувству, они не отступают назад, что бы ни сулила им развязка их романа – счастливый ли союз, или терновый венец страдания и безвременную могилу… Но есть люди, которые очень уважают чувство, пока оно сулит им верное счастие и пока оно не требует от них ничего, кроме прекрасных слов и поэтических восторгов… И потому участь таких людей решает не страсть, не чувство, а теплая летняя ночь и одинокая прогулка, располагающие к неге, мечтательности и заставляющие расплываться душою и сердцем… И как же иначе? для страсти надо воспитаться, развиться. А для этого надо возрасти в такой общественной сфере, в которой духовная жизнь через дыхание входит в человека, а не из книг узнается им… Только тогда из его страсти может выйти или серьезная повесть, или высокая драма, а не жалкая комедия, не карикатурная пародия для потехи сатаны…



