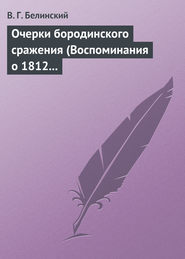 Полная версия
Полная версияОчерки бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе)
Вот почему, отдавая подданному приказание идти, монарх не оглядывается назад, чтобы удостовериться, исполняется ли его приказание; вот почему его слово – закон, мание руки его – повеление, взгляд очей – гроза или милость. Он творит, «как власть имеющий» [2], и власть его не от него, но свыше. Вот почему, когда слепое своеволие воздвигает бури мятежа, он с бестрепетным, грозным челом является, один и безоружный, и в комнате Шакловитого{11}, и на площади, усыпанной мятежными толпами, которых и самый страх оружия и смерти был бессилен привести к повиновению, – является и, вместо увещаний и просьб, одним словом властительных уст, одним мановением державной руки повергает перед собою во прах сонмище губителей, оцепеневших от одного его появления: ибо он творит, «как власть имеющий»… Превосходно у Шекспира то место в «Ричарде II», где отложившийся от короля герцог Йоркский, увидев Ричарда, осажденного и почти побежденного без надежды на восстание, увидев его восходящим на стену замка, в гордом сознании его царственного величия, возмущается духом в сознании виновной совести и восклицает:
Смотрите! о, смотрите! сам король Ричард,Как негодующее солнце всходит,Багровое на огненном востока праге,Заметив, что завистливые облакаСтремятся потемнить его сияньеИ запятнать собою лучезарный путьК стране заката. Но он смотрит как король;Смотрите: очи как орла сверкаютИ в них могучее величество горит!О, боже! их ли горе потемнит!Какая бесконечная глубина мысли заключена в этом невольном излиянии, в этой насильственной исповеди виновного вассала, так молниеносно и в таких немногих словах выраженной величайшим гением, которого всезрящему оку доступна была сущность мировой жизни, ее основные законы! И сколько глубины, и истины в этом обращении короля к вассалу:
Мы удивляемся: стоять так долгоИ ожидать, чтоб в страхе преклонилисьТвои колени, потому что мы себяТвоим законным королем считаем!И если так: как смеют твои членыЗабыть пред нами подданного долг?Когда же не король я, – покажиНас развенчавшую десницу бога!Мы знаем, что рука из крови и костейНе может захватить священный скиптр,Не святотатствуя и не воруя.И думаешь ли ты, что все британцы,Как ты, от нас сердцами отвратились,Что мы и без друзей и без защиты?..То знай: господь мой, всемогущий богЗа облаками держит ополченье язвы,В защиту нам; она убьет детей,Не вышедших еще на свет от тех,Кто на главу мою вассала рукуДерзнет занесть и вздумает грозитьСиянью драгоценного венца!Скажи же Болингброку [3] (кажется, он там),Что каждый шаг его на нашей почве —Опасная измена. Он пришелСломать печать на пурпурном заветеКровавых войн. Но прежде, чем корона,К которой он стремится, на его челеВозляжет мирно, десять тысяч разКровавое чело сынов заставитЛить слезы матерей, обезобразитЛик Англии цветущей, превратитЦвет мира девственный и бледныйВ багровое негодованье, ороситЛуга Британии ее же кровью! [4]Президент Северо-Американских Штатов есть особа почтенная, но не священная: как представитель общества по условию самого общества, он есть высший чиновник его, на котором лежит большая против других ответственность и который за то пользуется большим против других жалованьем и почетом, а не царь, который выше суда человеческого и с которым подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и нравственного закона. Личность президента есть призрак, действительно одно звание его, и потому тот или другой – все равно. Вследствие этого идея этого государства есть условный символ, без сущности и личности, тогда как в монархиях образ государя есть личность государства, и подданный, служа монарху, служит своему государству. Имя монарха для подданных есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляет магическою силою заключенной в нем идеи признавать целый народ как единого человека и бесконечное множество индивидуальных особностей сливает во единое тело, в единую живую душу, имеющую в своем акте сознания единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значение имеет для венценосцев древность рода и происхождения, теряющаяся в непроницаемости мистического мрака времен и вечности. Царь должен родиться царем, и право рождения есть его первейшее и священнейшее право. Из мильонов людей он один избран богом, и мильоны не могут ревновать его избранию и добровольно преклоняют перед ним колени, как перед существом высшего рода, и охотно повинуются ему, отказывая в таком повиновении равным себе, ибо власть их считают случайною. Это-то, видно, и было причиною падения всех самозванцев и похитителей, хотя многие из них и были люди великого ума, способностей и силы характера. Как снято с самозванца царское имя, которым он осенился как правом, – и будь он гений, окажи народу великие заслуги, но уже нет на нем багряницы, и обнаженный труп его лежит добычею небесных птиц… Другим образом, но тот же конец бывает и для похитителей. Благодаря своему гениальному инстинкту, свойственному всем истинно великим людям, Наполеон глубоко чувствовал эту истину. Раздаватель корон и скипетров, могущественнейший монарх в мире, по свободному признанию целого народа, великий гений, сам создавший себе и трон и свое колоссальное счастие, кажется, имевший полное право гордиться своим нецарским происхождением, он, несмотря на все это, беспокоился и о своей судьбе и о судьбе своего рода; он понимал, что для твердости и действительности его власти недостаточно и его гениальности, и его подвигов, и помазания католическим первосвященником, – и искал, как своего спасения, вступить в брак с женою царского рода. И вот он разводится с женою, которую страстно любил, которую короновал как императрицу, и вступает в новый брачный союз с принцессою древнего царского рода, с дщерию цесарей{12}. Светские мудрецы, люди, которые легко рассуждают о тяжелых предметах, которым достаточно четверти часа, чтобы, с сигарою во рту, пересудить всех и всё и перестроить мир на свой лад, такие люди глубокомысленно объявляют, что Наполеон этим союзом унизил величие своего гения и, увлекшись тщеславием, сделал безрассудный поступок, роковую ошибку, которая и погубила его. Нет! это была мысль гениальная, свойственная только великому человеку, глубоко понимавшему законы разумной действительности, глубоко постигавшему таинственную и сокровенную для обыкновенного зрения сущность вещей. Мысль Наполеона стоит всех его побед и подвигов: он в ней так же велик, как и в них. Не мелкое тщеславие, не суетное желание украситься заимствованным блеском и пурпуром чуждой ему багряницы решило его на этот союз, но глубокое сознание, что этот брак набросит на него в глазах царей и народов, современников и потомства тот религиозно таинственный свет, который составляет необходимое условие действительности царственного достоинства. Он понимал, что если у него будет сын, то хотя бы этот сын, наследовав его престол, не наследовал и слабого отблеска его гения, словом, был бы самым обыкновенным человеком, и тогда бы он тверже своего великого отца сидел на оставленном ему троне, он – сын великого отца и венценосной матери. Что он слышал в восторженных кликах своей старой гвардии? – любовь к ее великому полководцу, ее маленькому капралу… Но мог явиться и другой полководец, озарить новым блеском им же прославленных орлов и присвоить себе клики воинственных приветствий. Что он слышал в восторженных кликах народа? – благодарность за оказанные ему услуги, громкий аплодисман за успех, за которым могли раздаваться – как оно и случалось – оскорбительные свистки сбившемуся с роли актеру. Не забудьте изречения Наполеона: «Я продолжитель не королевства Гуго-Капота, но империи Карла Великого»{13}. Видите ли: он призывает себе на помощь не один союз брака с венценосною женою, но и союз истории, союз веков, союз предания, – и на Марсовых полях силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать с ним настоящее… О, господа глубокомысленные политики! Наполеон понимал кое-что не хуже и не меньше вашего, и самые его ошибки и промахи разумнее и поучительнее ваших прекрасных умствований…
Все, сказанное нами, клонится к тому, чтобы показать, что общество или народ не есть отвлеченное понятие, но живая личность, единое тело и единая душа; что оно рождается не случайно, не по человеческому условию и произволу, но по воле божией; что оно не есть только необходимая форма развития человечества и не имеет причины в нужде и в пользе людей, но есть само себе цель, в самой себе носящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, то есть собственною самодеятельностию жизненной силы, составляющей его сущность, не чрез налипание и сращение извне, но внутренно (имманентно) из самого себя, органически, как дерево из зерна… Доселе мы смотрели на общество, как на нечто единое и целое: теперь взглянем на него, как на единство противоположностей, которых борьба и взаимные отношения составляют его жизнь. Общество состоит из людей, из которых каждый человек принаддежит и себе и обществу, есть индивидуальная и самоцельная особность и член общества, часть целого, принадлежащая не себе, а обществу. Прежде всего, всякий человек есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пункт всех его действий и необходимое условие его действительности. Как особность, он стремится к своему личному удовлетворению; но лишь только сделает он шаг к этому удовлетворению, как встречает себе препятствие вне себя, где он видит множество существ, подобных ему, так же, как и он, стремящихся к личному удовлетворению. Что полезно ему, то полезно и другому; а как иногда для многих полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться им один, старается лишить его всех других, – борьба личностей и индивидуальных особностей. Далее: что полезно одному, то вредно другому, и этот другой старается не допустить первого, – опять борьба личностей. Это зрелище представляет в себе все творение, которое есть бесконечное многоразличие особностей; это зрелище представляют собою бессмысленные животные; но в людях, как существах разумных, это же самое зрелище, имеющее своим основанием сознание своей единичности каждым лицом, есть только исходный пункт жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляют новое зрелище. Человек, как особность, естественно видит в других людях, как особностях же, нечто враждебное себе; но в то же время он доходит своим разумом до сознания, что каждая из этих враждебных ему особностей имеет такое же право на личное удовлетворение, как и он, и что, следовательно, если он требует от них уступок и нуждается в их помощи, то и они вправе требовать от него уступок и помощи. Вот закон любви, которая есть чувственный, так сказать, разум, или бессознательная разумность! Из закона любви вытекает закон нравственный, который сознается из столкновения внутреннего (субъективного) мира человека с внешним (объективным) миром. Всякий человек есть сам себе цель, и жизнь дана ему как удовлетворение, как счастие, как блаженство, к которым, следовательно, он имеет полное право стремиться, сообразно с своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носит он таинственный и бесконечный мир, полный желаний, порывов, стремлений, страданий и радостей, и только чрез удовлетворение этого своего мира может он достигнуть счастия. Это мир внутренний, мир субъективный человека, сфера, в которой он сам себе цель и, кроме себя и личного своего удовлетворения, имеет право никого и ничего не знать. Субъективная сторона человека истинна и, следовательно, действительна; но всякая односторонняя истина, доведенная до крайности, впадает в нелепость. Субъективность, оставаясь субъективностию, в сфере знания превратится в ограниченность и произвольность понятий, в сфере чувства – в сухой и безнравственный эгоизм, в сфере действия – в преступление и злодейство. Субъект есть личность; но что же такое эта личность, кого выражает и определяет она? Субъективная личность есть выражение и определение духа, а дух бесконечен: следовательно, субъективная личность не должна быть ограниченностию: дух истинен, следовательно, субъективная личность не должна быть эгоистическою. А между тем ограниченность есть условие всякой субъективности. В чем же примирение этого противоречия, где выход из него? в столкновении субъективной личности человека с объективным (вне его находящимся) миром. Человек есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выражением которого служит его личность. Отсюда выходит двойственность его положения и его стремлений; его борьба между своим я и тем, что находится вне его я, составляет его не-я. В отношении к его индивидуальной особности мир не-я, мир объективный, есть враждебный ему мир; но в отношении к его духу, как проблеску бесконечного и общего, мир его не-я, мир объективный, есть родной ему мир. Чтоб быть действительным человеком, а не призраком, он должен быть частным выражением общего, или конечным проявлением бесконечного. Вследствие этого он должен отрешиться от своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед мировым, общим, признав только его истиною и действительностию. Но как это мировое или общее находится не в нем, а в объективном мире, он должен сродниться, слиться с ним, чтобы после, усвоив объективный мир в свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностию, но уже действительною, уже выражающею собою не случайную частность, а общее, мировое, словом, стать духом во плоти. В сфере жизни, в сфере действия столкновение субъективной личности с объективным миром совершается деятельно же, не как житейская опытность, но как разумный опыт жизни. Почва, на которой вырастают благотворные плоды разумного опыта, есть нравственное чувство. Субъект, сознавая свою особность, свою самоцельность и следуя инстинктивному стремлению к личному удовлетворению, чувствует себя на каждом своем шагу и в каждом своем действии как бы связанным какими-то внешними отношениями; он говорит себе: «Я сам себе цель, и хочу жить для жизни, жить для себя»; но внешний мир говорит ему: «Ты не для себя создан, ты мне принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслаждение ты можешь получить только с моего позволения». С ужасом и ненавистию внимает юный человек этому страшному голосу какого-то призрака, которого он не видит, но которого могучие объятия обхватили его со всех сторон и не позволяют ему ни одного свободного движения. В этом невидимом сторуком исполине он видит существо совершенно внешнее и враждебное себе; но разумный опыт жизни, ценою страшной борьбы, противоречий, страданий, перемешанных с торжеством победы, примирением и радостями, уверяет его наконец, что этот колоссальный и враждебный ему призрак есть его же родное, его же внутреннее, словом, законы его же собственного разума, его же субъективного духа, но только осуществившиеся во вне его, как явления. В самом деле, он видит, что он есть единичная личность, которая сама себе цель, но он же видит, что у него есть отец, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконец, общество, отечество, правительство и что со всеми этими предметами (объектами) его субъективная личность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а следовательно, и духа. Он понимает, что если бы они сами захотели отрешиться от него, сделать его свободным от них, он потерял бы всякое значение в собственных глазах, очутился бы в собственных глазах призраком без почвы, на которую уперлась бы его нога, без воздуха, которым освежилась бы грудь его, без имени, которым бы он обозначил себя в немой беседе с самим собою. В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с истиною, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целию самой себе, но имеет целию примирение. Всякий духовный процесс совершается с болью и страданием, и столкновение субъективной личности человека с объективным миром сперва необходимо является, как борьба и страдание. Но дорогое и покупается дорогою ценою, и благо тому, кто ценою страдания приобретает истину, которая одна дает блаженство, его же ржа не тлит и тать не похищает{14}. Но горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность или требует полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестию своей исполинской длани. Кто отторгся от нее без примирения, тот делается призраком, кажущимся ничто, и погибает. Алеко Пушкина поссорился с обществом и думал навсегда избавиться от него, пристав к бродячей толпе детей природы и вольности; но общество и там нашло его и страшно отомстило ему за себя через него же самого. Так как, несмотря на все его мудрствования, оно жило в нем бессознательно и кровно, то он и вздумал, вопреки своим понятиям, наложить на полудиких детей природы то же самые стеснительные условия общественности, против которых сам восставал, и два трупа лежали перед ним, как необходимые результаты его ложного положения в отношении к самому себе, и навсегда унесли с собою в могилу всякую надежду его на счастие и мир души в этой жизни…
Но борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба. Субъективный человек в вечной борьбе с объективным миром и, следовательно, с обществом, – но в борьбе не в смысле восстания, а в смысле своего беспрестанного стремления то в ту, то в другую сторону. Объясним это примером. Петр Великий был человек; следовательно, у него был свой субъективный мир, в котором он принадлежал только себе, а не государству: он был супруг, отец, брат, словом – семьянин; он вкушал в недрах своего семейства те же радости, которые вкушал и последний из его подданных. Он имел друзей, как, например, Меньшикова, которого горячо любил. Это его субъективный мир. Но он же не имел почти минуты времени, чтобы забыться в милых, обаятельных радостях семейственности и дружбы:
То академик, то герой,То мореплаватель, то плотник,Он всеобъемлющей душойНа троне вечный был работник {15}.Вот его объективный мир. Но и этот объективный мир не был чуждым и внешним ему, не был одним суровым долгом, но был его задушевным, кровным, и, действуя на его поприще, он вкушал блаженство, которому нет пределов и для выражения которого нет слов. Но если это было такое блаженство, которого ему не мог дать субъективный мир, зато и субъективный мир давал ему такое блаженство, которого не мог ему дать объективный мир. Сверх того, субъективные радости даются легче, нежели объективные: эти дома, они всегда с нами, а для достижения тех нужна борьба, усилия, труд в поте чела; нужно иногда на роковую ставку судьбы поставить всё. Притом же действование в объективном мире не может всегда быть только наслаждением, но часто должно быть одним долгом, и минуты блаженства, доставляемые им, редки и бывают большею частию результатом успеха.
Пирует Петр. И горд, и ясен,И полон славы взор его,И царский пир его прекрасен.При кликах войска своего,В шатре своем он угощаетСвоих вождей, вождей чужих,И славных пленников ласкает,И за учителей своихЗаздравный кубок поднимает {16}.Да, это торжество, незнакомое простым смертным: это торжество, известное только богам, царям, героям и народам! Но сколько огорчений, досад, сомнений, мук душевных, тревог и забот предшествовало этому дивному торжеству!.. Чтобы лучше показать двойственность человека в субъективном и объективном мире, напомним Петра в другие две минуты. Вспыхивает стрелецкий бунт, и душа заговора – родная сестра царя-исполина: брат о ней плачет, а царь ее судит и карает…{17} Надежда великого Царя, боявшегося и трепетавшего только одной смерти – смерти своей идеи реформы, – тот, кто мог и продолжить и укрепить или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сын, восстает на отца и царя, и восстает именно как на преобразователя… Весы суда готовы: на одной стороне естественная любовь родителя, на другой – судьба народа… Народ победил – страшная, величественная и торжественная минута!.. Солнце должно было остановиться в своем вечном, довременном течении, природа притаить дыхание, пульс мировой жизни прерваться, в ожидании страшного решения{18}, чтобы потом забиться новою, удвоенною жизнию, потечь новым, ускоренным течением от чувства торжества… Великий подвиг великого человека! – восклицаете вы в гордом сознании торжества достоинства человеческой природы. Мир объективный победил мир субъективный, общее победило частное! Отчего же так велика эта победа? – оттого, что власть естественного влечения сердца безгранична над волею человека, и, когда торжествует над ним закон нравственный, человек является героем, полубогом, представителем человечества, осуществившим своею личностию все могущество целого человечества; оттого, что права субъективного человека бесконечно сильны над душою и побеждаются только самоотвержением в пользу общего… Итак, у одного человека две жизни, из которых каждая поочередно овладевает им, которые борются между собою, и в этой борьбе его жизнь…
Общество слагается из множества людей, и у каждого из них свой горизонт понятий, своя сфера жизни, свой круг действия, наконец, свой субъективный и свой объективный мир. Один больше частное явление, то есть больше принадлежит себе; другой больше общее явление, то есть больше сливается с интересами объективными, выходящими из сферы его частной жизни; но каждый разделен между собою и обществом, и каждый соединен с обществом, то есть находит себя в обществе. Иной, по ограниченности своей натуры, даже не понимает слова «отечество», но если он вписан в сословие, в цех – у него уже есть свой объективный мир. Вот откуда истекает живое единство общественной организации, которой бесчисленные и разнообразные нервы, проходя взад и вперед и перепутываясь в теле, сходятся в одном пункте и образуют собою орган сознания – единого личного я. Каждый из членов общества имеет свою историю жизни, а общество имеет свою, и еще гораздо последовательнейшую, гораздо полнейшую, разумнейшую и понятнейшую. Как единый человек, оно переходит все моменты развития: начав бытие свое бессознательно и довременно, вдруг пробуждается для сознания, но для сознания еще естественного, непосредственного; [5] наконец наступает для него эпоха выхода из естественной непосредственности, оно отрицает родство крови и плоти во имя родства духа, чтобы потом через дух снова признать родство крови и плоти, но уже просветленное духом – светом божественной мысли. Как у единого человека, у него бывают болезни, и фазы болезней, и переход в здоровое состояние. Словом, это живая, единичная личность, огромное тело, с бесчисленным множеством голов, но с единою душою, единым индивидуальным я. И никогда его единство не бывает так поразительно, как в тех грустно или радостно торжественных его положениях, когда или решается вопрос о его жизни и смерти, или общая радость заставляет сильно биться его исполинское сердце. Все в нем усыплено в каком-то дремотном спокойствии, все так обыкновенно и ежедневно: судья ходит в суд, чтоб брать жалованье и жить им, воин исполняет свои обязанности, как долг службы, составляющий условия его обеспечения, купец думает о барышах, словом – все занято собою: кто родится, кто умирает, кто женится, кто разводится, и всякий – Иван да Петр, Сидор да Лука. Но вот буря иноплеменного нашествия проносится по усыпленному народу и разражается громом и молниею над его беспечною головою – и нет больше людей: является народ, нет больше личных и частных интересов: все дума об отечестве, пестрые толпы слились в одну общую массу, во главе которой является царь. И те, которые удивляли вас своею мелкостию и пошлостию, оскорбляли бездушием, те часто поражают вас и львиною храбростию, и благородством поступков, и великодушною готовностию принести себя на жертву за общее дело, даже не думая, чтобы их жертва имела какую-нибудь цену. Для того-то и насылается буря, чтобы очищался воздух и орошенная земля чревотела плодородием и давала плод сторицею… Такое зрелище представляла собою Русь на Мамаевском побоище; такое зрелище представляла она в годину междуцарствия, когда умирающее сознание ее я было пробуждено и оживлено голосом келаря Палицына, святителя Гермогена, мясника Минина и деятельным участием князя Пожарского…{19} Отчего видна такая забота на лицах всех и каждого? отчего по одному направлению движутся, от места до места, густые массы народа, отчего, говоря словами поэта,
В погребальный слившись ход,Вся империя идет?..{20}Умер Благословенный…{21} Отчего в первопрестольном граде, от заставы до стен священного Кремля, тянутся по обеим сторонам густые толпы бесчисленного народа, едва удерживаемые в порядке двойным рядом солдат, лепятся на помостах, покрывают заборы и кровли домов? Кто созвал их сюда? Никто, даже те, которые имеют право сзывать народ, скорее озабочены тем, чтобы число его не было во вред ему самому. Отчего лица всех светлы и радостны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себе? отчего глаза всех, с томлением и трепетом ожидания, обращены в одну сторону? отчего вдруг, при царственном гуле колоколов и громе пушек, воздух потрясся от стонущего «ура», как бы выходящего из единой груди и единых уст?.. Новый царь вступает в древнюю Москву для венчания на царство…{22}



