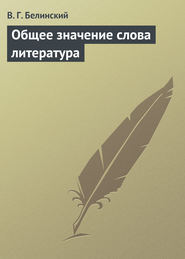 Полная версия
Полная версияОбщее значение слова литература
Очень понятно, отчего родился у нас вопрос: существует ли русская литература? Его произвели, с одной стороны, ребячество нашего литературного самообольщения, которое во всяком русском писателе хотело видеть то Гомера, то Пиндара; с другой стороны, односторонняя точка зрения на русскую литературу. Если смотреть только с художественной точки зрения на наших старых писателей, то не только какие-нибудь Сумароков, Херасков и Петров, даже Ломоносов – мало того – сам Державин лишится почти всего своего значения и перестанет казаться не только великим, даже замечательным явлением в области русской поэзии. Но исключительно эстетическая точка зрения, как всякая односторонность, всегда доводит до ложных заключений: и потому при суждении о литературе, кроме эстетической точки зрения, нужна еще и историческая. И вот с этой последней точки зрения, не только Державин – и Ломоносов получает великое значение в русской литературе, не только как писатель вообще, но и как поэт. Даже Сумароков, Херасков и Княжнин, которых так легко совершенно уничтожить с эстетической точки зрения, – с исторической, напротив, получают полное оправдание и являются в русской литературе именами замечательными и почтенными. Эти трудолюбивые люди своею деятельностию, хотя и ошибочною, размножали на Руси книги, а через книги – читателей, распространяли в обществе охоту и страсть к благородным умственным наслаждениям литературою и театром, – и таким образом, мало-помалу, приготовили для Карамзина возможность образовать в обществе публику для русской литературы. Несмотря на то, что эта публика еще и теперь слишком немногочисленна в сравнении с массою целого общества и тем более с массою всего народа и что, при ее малочисленности, она поражает взор наблюдателя разнохарактерностию, пестротою и противоречием своих вкусов, понятий и требований – не подлежит никакому сомнению, что у нас есть уже и публика, так же, как есть и литература. Это доказывается тем, что бездарность, мелочная талантливость и ложная оригинальность пользуются у нас только мгновенным, хотя иногда и сильным успехом, тогда как истинный талант, истинная гениальность скоро оцениваются, оказывают на публику огромное влияние и приобретают прочную известность, прочную славу. Пушкин при своем появлении был встречен и восторгом и негодованием, но первый скоро одержал верх, и скоро гениальность Пушкина безусловно была признана всем обществом. «Горе от ума» Грибоедова еще в рукописи было прочитано всею Россиею. Лермонтов, при первом своем появлении на литературном поприще, обратил на себя изумленные взоры всего общества и, несмотря на свою преждевременную кончину, остался во мнении публики великим поэтом. Но никто из русских писателей не возбуждал такого общего и такого энергического негодования и никто из них с таким блеском и торжеством не победил его, как Гоголь. Встреченный с энтузиазмом только немногими голосами, во всех остальных возбудил он ропот оскорбления и негодования, очень естественный и понятный по духу сочинений Гоголя и по отношению их к обществу; но – удивительное дело! – с равною жадностию был он читаем и перечитываем как своими почитателями, так и своими хулителями. Наконец истина взяла свое, и общественное мнение торжественно признало Гоголя великим национальным поэтом. Таких примеров, доказывающих, что все истинное, все живое скоро приобретает симпатию и признание русской публики, очень много.
Написать историю русской литературы, значит: показать, каким образом, как следствие общественной реформы, произведенной Петром Великим, началась она рабским подражанием иностранным образцам, принявши чисто риторический характер; как потом, постепенно, стремилась к освобождению из формальности и риторизма и приобретению для себя жизненных элементов и самостоятельности; и как, наконец, развилась до полной художественности и сделалась выражением жизни своего общества, стала русскою. Вместе с этим должно показать, что русская литература положила у нас основание публичности и общественного мнения, была проводником в общество всех человеческих идей и постоянно, не без успеха, боролась с предрассудками и пороками, завещанными нам невежественною, полуазиатскою стариною.
Но прежде, нежели приступим мы к изложению истории русской литературы, считаем за нужное бросить взгляд на нашу народную поэзию. Хотя художественная русская литература развивалась не из народной поэзии, однако первая, при Пушкине, встретилась с последнею, и вопрос о народной русской поэзии и теперь принадлежит к числу самых интересных вопросов современной русской литературы, потому что он сливается с вопросом о народности в поэзии. По рассмотрении произведений народной русской поэзии мы бросим беглый взгляд на произведения древней и старой русской словесности, которая не принадлежит ни к богословию, ни к хроникам, так как ни то, ни другое не входит в состав нашей книги, предмет которой – исключительно светская изящная (беллетрическая) литература.
Примечания
Впервые напечатано Кетчером по черновой рукописи, в издании сочинений Белинского К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1862, ч. XII, стр. 393–443). В настоящее издании воспроизводится по подлинной рукописи, хранящейся во Всесоюзной библиотеке им. Ленина, № 9494.
Статья представляет главу «Критической истории литературы», написана, очевидно, вслед за предыдущими статьями в 1841 году. Заглавие статьи принадлежит Кетчеру, а не Белинскому.
Белинский начинает с того, что литература является зеркалом, отражающим в типизированных образах («идеалах» – по терминологии Белинского) различных ступеней исторического развития общества. Из этого вытекает понимание литературы, как воплощения общенародных стремлений и исканий. «Литература есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в слове». Отсюда вытекает и понятие публичности. Литература имеет «определенную арену в живом интересе общества», – читаем мы в одном из зачеркнутых мест. Только в литературе, – отражающей «сознание народа, исторически выразившееся», он видит подлинную литературу. Греция привлекает его внимание именно свободою, существовавшей для ее граждан, участием в их делах государственных и общественных, наконец всеобщим образованием членов греческой республики. Но Белинский видит, что уже вырисовываются контуры «новой Эллады», социалистического общества, а следовательно, и контуры новой подлинно народной литературы. Он видит, что наука мирится с жизнию, искусство проникается общественными интересами, и «скоро или еще не скоро, но придет же время, когда в новом человечестве воскреснет древняя Греция, лучше и прекраснее, чем была она: Греция, прошедшая через христианство, победившая климаты, природу, пространство и время, вполне покорившая духу своему царство материи: в новом обществе верование будет общественным разумом и знанием, а знание верованием; верование будет источником живой деятельности, и живая деятельность будет верованием, и будет новая земля и новое небо». Недаром последние строки Белинский вычеркнул, вспомнив, очевидно, о цензуре.
Белинский рассматривает русскую литературу как огромное социальное явление: она имеет значение не только для одной России, ибо в ней выразилось развитие общечеловеческих, гуманистических идей; и для нас, и для мира она имеет «великое значение не в одном эстетическом, но еще более в историческом значении».
Естественно, что на этой теоретической основе им уже прочно утверждается существование оригинальной и замечательной русской литературы, которая «сделалась выражением жизни своего общества, стала русскою». Вместе с тем русская литература «положила у нас основание публичности и общественного мнения, была проводником в обществе всех человеческих идей, и постоянно не без успеха боролась с предрассудками и пороками…»
Сноски
1
От чего и произошло, по преданию от греков, слово герой в смысле главного действующего лица в поэме, драме, романе, повести, даже комедии.
2
Сохранение существующего порядка. – Ред.
Комментарии
1
Позднейшие публикации памятников древнерусской литературы доказали, что в ней существовала не только теологическая, но и светская литература.
2
В рукописи испорчено, даем по изданию К. Солдатенкова и Н. Щепкина.
3
Белинский говорит о «Литературных мечтаниях», в которых он провозгласил, что у нас нет литературы.
4
Белинский рассматривает прошедшую литературу о точки зрения подготовки появления Пушкина. Наиболее развернута эта мысль в статьях «Сочинения Пушкина» (т. III наст. изд.).



