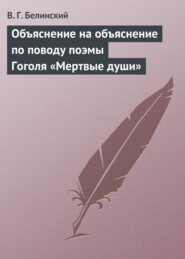 Полная версия
Полная версияОбъяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души»
Г. Константин Аксаков опять доказывает, что в Манилове есть своя сторона жизни: да кто ж в этом сомневался, равно как и в том, что и в свинье, которая, роясь в навозе на дворе Коробочки, съела мимоходом цыпленка (стр. 88), есть своя сторона жизни? Она ест и пьет – стало быть, живет: так можно ли думать, что не живет Манилов, который не только ест и пьет, но еще и курит табак, и не только курит табак, но еще и фантазирует…
Вообще видно, что, сбившись с прямого пути названием «поэмы», которое Гоголь дал своему произведению, г. Константин Аксаков готов находить прекрасными людьми всех изображенных в ней героев… Это, по его мнению, значит понимать юмор Гоголя… Что бы он ни говорил, но из тону и изо всего в его брошюре видно, что он в «Мертвых душах» видит русскую «Илиаду». Это значит понять поэму Гоголя совершенно навыворот. Все эти Маниловы и подобные им забавны только в книге; в действительности же избави боже с ними встречаться, – а не встречаться с ними нельзя, потому что их-таки довольно в действительности, следовательно, они представители некоторой ее части. Хороша же «Илиада», героем которой действительность, имеющая таких представителей!.. «Илиаду» может напомнить собою только такая поэма, содержанием которой служит субстанциальная стихия национальной жизни, со всем богатством ее внутреннего содержания, в которой эта жизнь полагается, а не отрицается… Истинная критика «Мертвых душ» должна состоять не в восторженных криках о Гомере и Шекспире, об акте творчества, о достоинствах Манилова, о неиспорченной русской натуре Селифана, о тройке и телеге: нет, истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения. Потом критика должна войти в основы и причины этих форм, должна решить множество, по-видимому простых, но в сущности очень важных вопросов, вроде следующих: Отчего прекрасную блондинку разбранили до слез, когда она даже не понимала, за что ее бранят? Отчего весь губернский город N оказался и хорошо населенным и людным, когда сплетни насчет Чичикова получили свое начало от живого участия «приятной во всех отношениях дамы» и «просто-приятной дамы»? Отчего наружность Чичикова показалась «благонамеренною» губернатору и всем сановникам города N? Что значит слово «благонамеренный» на чиновническом наречии? Отчего автор поэмы необходимою принадлежностию длинной и скучной дороги почитает не только холода (которые бывают на всяких дорогах), но и слякоть, грязь, починки, перебранки кузнецов и всяких дорожных подлецов? Отчего Собакевич приписал Елизавету Воробья? Отчего прокурорский кучер был малый опытный, потому что правил одною рукою, а другую засунув назад, придерживал ею барина? Отчего сольвычегодские угостили на пиру (а не в лесу, при дороге) устьсысольских на смерть, а сами от них понесли крепкую ссадку на бока, под-микитки, и все это назвали «пошалить немного»?.. Много таких вопросов можно выставить. Знаем, что большинство почтет их мелочными. Тем-то и велико создание «Мертвые души», что в нем сокрыта{9} и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение. Конечно, какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное-рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете… Почему он так может показаться важным для вас в жизни, – вот вопрос!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснил тайну, отчего из Чичикова вышел такого рода «приобретатель»; это-то и составляет его поэтическое величие, а не мнимое сходство с Гомерами и Шекспирами…
Г. Константин Аксаков ставит нам в вину, что мы вовсе пропустили следующие строки в его брошюре: «Такие тесные пределы не позволяют нам сказать о многом, развить многое и дать заранее полные объяснения на недоумения и вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей статьи. Но надеемся, что они разрешатся сами собою». Выписав эти строки, г. Константин Аксаков замечает: «Но у рецензента не было ни недоумений, ни вопросов; он сейчас решительно не понял, в чем дело». Неправда, решительная неправда, г. Константин Аксаков: брошюра ваша возбудила в рецензенте сильное недоумение касательно того, что в ней говорится, возбудила вопрос, как в наше время могут являться в свет подобные фантасмагории праздного воображения и пустого философствования; но он, рецензент, если не тотчас же, то очень скоро понял, в чем дело, то есть понял, что оно заключается только в сильном желании отличиться чем-нибудь необыкновенным в литературе… Итак, надежда г. Константина Аксакова совершенно сбылась: дело его брошюры объяснилось само собою… А что тесные пределы статьи его не позволили ему много развить и заранее ответить на вопросы (которые, видно, чуяло его сердце), – это уже не наша, а его вина: вольно же ему было избирать тесные пределы вместо обширных…
Остальные пункты «Объяснения» г. Константина Аксакова состоят в следующем:
1. Г. Константин Аксаков мог бы доказать ясно, что «Отечественные записки» жестоко ошибаются, думая, что пока еще русский поэт не может быть мировым поэтом; но что он об этом, конечно, с петербургскими журналами говорить не будет; и что об этом могут быть написаны целые сочинения, книги, но тоже, конечно, уж не для петербургских журналов…
2. Возражение его, г. Константина Аксакова, не полно, однако пространнее, чем он хотел; кто же хочет узнать дело лучше, тот может снова прочесть брошюру, которую он, г. Константин Аксаков, готов (храбрая готовность!..) вновь повторить слово от слова. Затем он оставляет все дальнейшие объяснения, не предполагает, чтоб «Отечественные записки» стали ему возражать (увы, не сбывшееся предположение!), и во всяком случае отвечать более не будет…
3. «Отечественные записки», несмотря на их несогласия во мнениях с другими петербургскими журналами, в сущности одно и то же с ними…
Бедные петербургские журналы! погибли вы, погибли безвозвратно! Г. Константин Аксаков так глубоко презирает вас, что и говорить с вами не хочет… Великий боже! за что же такая страшная кара на петербургские журналы?.. Разве нельзя было определить менее тяжкого наказания!.. Но позвольте: кто же он сам, этот страшный, неумолимый г. Константин Аксаков, одним своим «да» и «нет» решающий все вопросы, на все и всему изрекающий приговоры? Неужели это тот самый г. Константин Аксаков, который в разных журналах, а в числе их и в «Отечественных записках», напечатал несколько переводов немецких стихотворений, переводов частию довольно порядочных, частию весьма посредственных, а частию и весьма плохих?.. Если так, то невольно спросишь: из какой же тучи этот гром? да полно, из тучи ли еще он?..
Что же до нежелания г. Константина Аксакова возражать далее, оно очень понятно: это ему теперь было бы и трудно, да и негде (разве в брошюрах): ибо какой же московский журнал захочет далее принимать, как говорит русская пословица, в чужом пиру похмелье?..
Что же, наконец, до тождества «Отечественных записок» с другими петербургскими журналами: г. Константин Аксаков волен находить его. Может быть, он это утверждает и не с досады, а по убеждению… Мы тоже, по глубокому убеждению, видим тождество между его брошюркою и знаменитою «критикою» по поводу «Мертвых душ», в которой Селифан сделан представителем неиспорченной русской натуры…
Сноски
1
Из этих поэм должно исключить Divina Comedia <«Божественную комедию». – Ред.> – Данте, как творение самобытное, совершенно в духе католической Европы средних веков.
2
Следовательно. – Ред.
3
Следовательно. – Ред.
4
Исключая, разумеется, плохих повестей, которые есть у всех народов, а иногда бывают и у великих поэтов…
5
Так. – Ред.
6
Об эстетическом воспитании. – Ред.
7
Все сказанное о некоторых повестях Гоголя и недостатках в его «Мертвых душах» будет подробно развито в особой статье по поводу выхода четырех томов сочинений Гоголя, которых уже печатается третий том и которые выйдут в Петербурге к декабрю месяцу текущего года. Мы еще в долгу у публики и подробным разбором Пушкина, давно уже нами обещанным. Обещания своего мы не забыли, но все ждали предположенного издателями трех последних томов сочинений Пушкина – «Дополнения» к изданным уже одиннадцати томам его сочинений. Это дополнение выйдет скоро, и, вероятно, во второй книжке «Отечественных записок» будущего, 1843 года читатели наши найдут или исполнение, или начало исполнения нашего обещания касательно разбора сочинений Пушкина. Непосредственно за этим разбором последует разбор всех сочинений Гоголя от «Вечеров на хуторе» до «Мертвых душ» включительно. А за этим разбором последует разбор всех сочинений Лермонтова, которого полное собрание стихотворений скоро должно выйти в свет. Сколько составят статей эти три разбора – три ли статьи только, или больше, пока не можем сказать; но все эти три разбора будут написаны в органической связи между собою и составят как бы одно критическое сочинение. Историческая и социальная точка зрения будет положена в основу этих статей. Поговорить будет о чем!
Комментарии
1
Статья П. А. Плетнева – «Чичиков или мертвые души» Гоголя» («Современник», 1842, т. XXVII, № 3, стр. 19–61, подписано псевдонимом С. Ш.). Благожелательно относясь к Гоголю, Плетнев не смог все же раскрыть истинное значение гениального произведения. Он, например, сводил основной смысл поэмы к «идее о жизни человека, увлекаемого страстями жалкими» (стр. 21) или упрекал Гоголя в отсутствии «серьезного общественного интереса» в поэме и т. д.
2
Имеется в виду статья С. П. Шевырева, в «Москвитянине», 1842 г. № 7 и 8. Белинский здесь совершенно точно передает одно из курьезных рассуждений Шевырева, увидевшего в образе Селифана «свежую, непочатую русскую природу» («Москвитянин», 1842, № 7, стр. 219).
3
Статья Сенковского («Библиотека для чтения», 1842, № 8).
4
Цитата из «Евгения Онегина» (гл. IV, строфа XVIII).
5
В журнальном тексте или опечатка, или Белинский запамятовал: его статья о брошюре К. Аксакова напечатана не в 9-й, а в 8-й книжке «Отечественных записок».
6
Белинский снова имеет в виду статью Шевырева. См. выше, примеч. 150.
7
Эту точку зрения позднее будет развивать и Чернышевский. Он подчеркивал «тесноту горизонта» Гоголя, схватывавшего явления «только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий» (Избр. соч., т. III, 248). В этой «односторонности» Гоголя Белинский и Чернышевский справедливо видели истоки будущей трагедии писателя.
8
В тексте «Отечественных записок» и в солдатенковском издании – «ухорский». Для 40-х годов XIX века такое написание слова было вполне правомерно (см., например, «Словарь церковно-славянского и русского языка», Спб., 1847, т. IV, стр. 378; ср. также словарь Даля, М., 1935, т. IV, стр. 538).
9
Видимо, следует читать: «вскрыта и разанатомирована жизнь». В изд. Солдатенкова и Щепкина именно так (ч. VI, 555).



