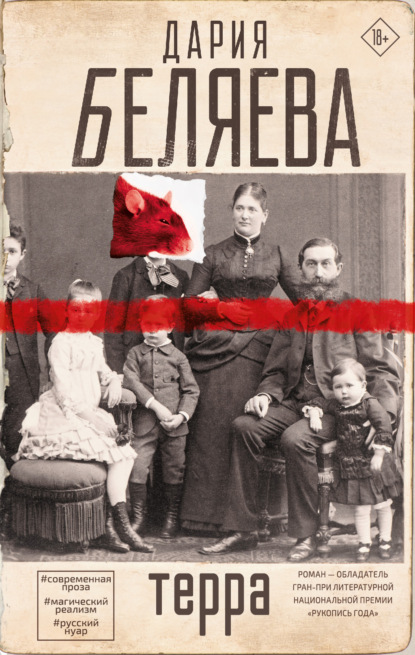
Полная версия:
Терра
– Ну я б не сказал. Видели бы вы, как папашка мой болеет.
– У каждой твари свое назначение.
Я встал и принялся рассматривать фотографии. В основном мисс Гловер позировала с молодыми людьми. Она становилась все старше, а мужчины и женщины, что позировали рядом с ней, умирали в юности.
У мисс Гловер на этих фотографиях была неизменная загадочная улыбка, она будто знала самую главную тайну. Ну, она и знала. Мисс Гловер явно было по вкусу ее дело. Мужчины и женщины всех рас и расцветок, которым она не дала погулять по земле и оставить после себя разруху и войны, не вызывали у нее никакого там сочувствия, она просто охотилась.
Кошачья безжалостность, так отец говорил.
– А мы потом от ваших убийств следы убираем, – сказал я.
– Таков круговорот. Мы предотвращаем худшее, а вы за нами подчищаете.
И никто не понимает, откуда все-таки столько тьмы в нашем мире, сверху или снизу она идет.
– Кроме того, – сказала мисс Гловер, мгновенно поняв, о чем я думаю, в чем ее обвиняю, – эти бедные детишки, на которых мы, кошки, охотимся, заражаются тьмой, которую не убрали, жалея себя, вы, крысы.
И все друг друга обвиняют в том, что тьмы все больше, и выясняют, кто нужнее вещи делает. Вот у них, наверху, социалочка, а у нас, внизу, – одиноко себе умирай, а в небе и вовсе все странно, об этом я тоже скоро расскажу.
– Ладно, – сказал я примирительно. – Значит, вы такие типа одинокие ассасины?
Мисс Гловер засмеялась.
– Можно сказать и так.
К нам вышла белая кошка, тут же глянула на меня, примерилась, заняв охотничью позицию, но так и не прыгнула. «Не на зуб он мне, значит, – подумала, видимо, про меня. – Пахнет крысиным дитем, а выглядит человеком».
– Иди сюда, Фелисити, познакомься, это ребенок духа. – И мисс Гловер обратилась уже ко мне: – Как твое полное имя?
– Борис.
– Борис, – повторила она. Кошка подошла ко мне, коротко втягивая носом воздух, затем прыгнула на колени к мисс Гловер. Кошка была такая же сказочная, как и ее хозяйка – синеглазая, длинношерстная.
– Турецкая ангора. Прекрасная родословная.
– А у ней и паспорт есть? Покажете?
В любой другой ситуации я бы, наверное, стал расспрашивать про фотографии, про работу мисс Гловер, про то, как она была киллером и убивала всяких там злодеев. Но не было на фотках ни одного генерала в очках-авиаторах, ни одного змееглазого политика.
Были молодые люди и этот самый Улоф Пальме с красивой улыбкой. А таких было жалко. Не хотел я знать.
– Конечно, с радостью покажу.
И полчасика, наверное, мы ее кошку обсуждали, единственную ее родную душу. Мисс Гловер налила себе бурбона и курила тонкую сигарету, вставив ее в черный мундштук.
– Старость, конечно, всегда случается неожиданно, – вдруг сказала она, отложив альбом с выставочными фотографиями Фелисити. Уж лучше бы их на видном месте держала, всяко приятнее, чем смотреть на фотографии людей, которых она убила. – Вот ты живешь, живешь своей жизнью, насыщенной, яркой, а секунду спустя она уже уплывает от тебя. Тело не то, разум – тоже. Ну что я тебе рассказываю? Ты до моих лет не доживешь.
– Ну, может, и слава богу, – сказал я, улыбнувшись как можно более лучезарно. Она посмотрела на меня с уважением.
Никак я понять не мог, нравится мне мисс Гловер или нет. Она была как я, и в то же время совсем другая. Людей убивала, и все такое, и от нее, может поэтому, а может из-за отточенных, принцесскиных манер, такой мороз исходил, продирал прям.
– В любом случае, – сказала она, – еще одна кошачья особенность, которую тебе не вредно бы знать, это наша изумительная родословная. Я состою в родстве почти со всеми аристократическими семьями Европы.
Точно, то ли от отца, то ли от мамки я такое слышал, что кошки мешаются с людьми (богатыми и влиятельными, конечно) чаще, чем остальные виды наших. Считается, будто от союзов людей и кошек чаще рождаются котята, чем люди.
– Круто. Габсбурги там всякие? А я знаю своих родичей до шестнадцатого века. Аж до опричников.
– Должно быть, есть чем гордиться.
Тут у нее вовсе не вышло меня подколоть. Ну, частенько бывало, что у медведей, например, военные семьи. Или вот есть многие поколения мышей-ученых.
Мы, крыски, в этом плане попроще. Среди нас много всяких чекистов, опричников, короче, вот этого сорта людей. Много бандитов. Много нищих, бездомных. Шахтеров еще много, ну понятно почему.
Матенька любила всех грязных, душой и телом, всех беспомощных и подлых, всех изгоев и больных. Как бомжам на вокзалах добрые медсестры обмывают раны, так и Матенька нас таких принимала и вылизывала.
И мисс Гловер было не понять, как это красиво, какая у меня на самом деле безупречная родословная с точки зрения Матеньки моей.
– А как вы называете вашего духа?
– Как же это будет на русском? – Мисс Гловер задумалась.
Говорила она так гладко, что я уже и забыл, что мой язык ей не родной.
– Охотница, я думаю. Королева Охоты. Нежная наша мать.
Глава 5. Собачка-таксочка
А вот брат мамкиного отца, звали его Сережей, жил во Львове, в коммунальной квартире. Был у него сосед, такой тихий мужичок в рубашке на размер больше, чем надо. Ходил, как тень, на работу и с работы, больше никуда.
В остальном – почти нормальный, даже и поговорить можно, только рассказывал, что снится ему все время один и тот же сон.
Значит, так, сейчас процитирую: лежал он, играл со своей крысой. Тут к нему подошла собачка-таксочка и сказала:
– Съем твою крыску.
И съела. А потом собачка-таксочка стала танцевать, пока не умерла. А сам он повесился на веревочке от торта.
Такой сон, значит, снился ему все время, в остальном – нормальный мужичок. Любил безответно Сережину жену, а больше никаких от него проблем. Вот, а потом взял да и зарезал Сережу. Сам повесился на веревке от торта.
Ну, как отец мой говорил: умер, и хорошо. Еще он любил говорить: вот все умрем и сразу заживем по-человечески.
А чего я про мужичка вспомнил? Ну, может от того, что на столике у мисс Гловер, убийцы, как-то незаметно появился тортик со сливочным кремом, весь этой вкуснятиной покрытый, и я в волнении облизывался. Мисс Гловер отрезала мне кусочек и, наклоняясь, чтобы положить его на тарелку, сказала, сладко-сладко:
– А если вы, крысы, разведете мне здесь грязь, что безусловно будет не по-добрососедски, я вас обоих убью.
Ого. Это она не шутила, но тортик все равно вкусный был. Руки у мисс Гловер чуточку дрожали, но она с ними отлично управлялась, легко, показывая, что ей не нужна никакая помощь, убрала со стола.
– Что ж, прости меня, пожалуйста, Борис, я чуточку устала, и мне хотелось бы прилечь.
– А, ну я понял. А можно еще кусочек тортика с собой?
– Разумеется, нет.
– Тоже понял.
Вдруг, когда мы уже стояли в прихожей, она достала из маленького ящичка пятьдесят долларов.
– Это чего?
– Сходи в аптеку и купи себе лекарств.
– Каких лекарств? Я не болею.
Болеешь – это же когда простуда, когда из носа течет да горло дерет, а со мной ничего такого не было. Мисс Гловер мягко, но сильно обхватила меня за плечи, развернула к зеркалу.
Ну тощий я был, ну бледный, и уголки глаз гноились. Это она мои язвочки не видела еще, а то бы на порог не пустила.
Мисс Гловер сказала:
– Следи за собой. У тебя, кроме себя, ничего и нет.
– Вот это какая неправда, у меня есть душа.
Она только засмеялась, а потом открыла передо мной дверь. Не вытолкнула, но казалось, что вытолкнула – странно. Фелисити любопытными, синими, как у хозяйки, глазами смотрела на меня, высоко вздернув хвост.
– До свидания, мисс Гловер. Спасибо, что вы со мной поговорили. Я вам этого не забуду.
– Я не сомневаюсь, Борис, буду рада увидеть тебя как-нибудь.
Слово «как-нибудь» она произнесла как «иногда» да и закрыла дверь. Я постоял еще пару секунд перед закрытой дверью, попредставлял ее, сидящую в одиночестве со стаканом бурбона. То есть не так уж чтоб совсем одну.
Из-за нашей двери пасло псиной, я понял, что это тот Уолтер. Значит, он сам к отцу приехал, надо же. Хотелось мне зайти и познакомиться, но из-за двери несло и очень злым папашкой, так что соваться я не стал. Я знал, как острится его запах, когда с ним лучше не связываться.
Больше в нашем доме никакого звериного духа не было, ну разве что домашние животные, я все исследовал.
Интересно, подумал я, а если мисс Гловер узнает, что папашка-то богатый и я зазря взял ее полтинник, убьет меня или нет?
Может нет, а то кто к ней ходить будет?
Я вышел на улицу и прям сразу весь напрягся от шума, а машины, мне казалось, ездили так быстро, до головокружения просто. Вжух – и нету ее, как не было. Чернокожий парень с плакатом, на котором маркером было написано «на сегодняшний ужин», докурил забычкованную, судя по запаху, сигарету. Какая-то дама с пуделем, похожая на персонажа мультика, спешила к остановке. Проехал на самокате мальчик, пахнущий сахарной ватой.
Мне все было любопытно, но больше всего – местная темень, непролазная, просто кошмарная. Такого я еще не видел, а мне-то казалось – Норильск заражен. На всем оно наросло, как слой плесени, я вчера и не заметил толком, такой ошалелый был, да так это все слилось с городом. Ну, что-то вроде полупрозрачных пленок, удушающие такие штуки. В Москве такого в достатке было, а тут и вовсе.
То есть, ну, приучиваешься не замечать, приучиваешься не видеть, а страшновато все равно. Это как если бы можно было посмотреть на радиацию.
От каждой пленочки шло то, чего в мире не должно быть. Ну или то, что хороший мир делало нашим.
Я не знал, как их снимать, прикасаться к ним тоже не хотел – так это было отвратительно. А я, на секундочку представьте, однажды с голодухи корочки свои гнойные с язвочек ел.
Вот какая была в этом мерзость невероятная, я не то чтобы испугался – я бояться не так уж хорошо умел, и все-таки стало мне в момент не по себе и неуютно. Стал я думать, значит, куда потратить мой полтинник. Хотелось особенного чего-нибудь, но я не знал, продадут ли мне бухло. Можно было, например, зайти в книжный или попробовать унюхать, кто тут толкает травку. А где-то на углу так маняще пахло заварным кремом.
Люди все не кончались, их было так много, и все они куда-то спешили, от них разные запахи исходили, они по-разному были одеты. Небо наверху подзатянулось тучками, но все равно было светло. И я не мог представить себе, что сейчас зима.
По мозгам мне бил даже грохот далекой автострады, я от всего охренел, но в то же время у меня был восторг от яркости вывесок в дрожащем, вибрирующем, как у да Винчи на картинах, воздухе.
Ночью все было правда, как в огне, в разноцветных всполохах, не верилось, что назавтра тут что-то кроме пепла останется. А вот.
Выглядел я, должно быть, ужасно тупо. Просто шлялся по улицам без малейшего понятия о том, где я. Нюх, я знал, и через полгорода приведет меня к отцу. Я не боялся потеряться, а развивал поисковое поведение, глядел, как какие-то парни развешивают по витринам рождественские звезды – хоть и в декабре, но в дождь. Ну да, он пошел все-таки, только теплый, и как-то даже привнес света. Хороший такой, летний, грибной дождь.
Интересно, подумал я, зима у них похожа на весну. Считается такая зима тут, в Лос-Анджелесе, холодной или жаркой?
А Уолтер тот, он чем так папаню разозлил?
Столько у меня было вопросов. Я снова посмотрел на небо, на прозрачный кружочек солнца между тощими тучками. Мамка мне говорила, что когда дождь идет, это Матенька пускает всех мертвых о нас поплакать, о том, что мы тоже умрем, и вообще о том, что никакой справедливости в мире нет, и о том, какие мы дурные, какие ошибки совершаем. Каждый о своем, в общем, плачет, но всем грустно.
Я теперь в это верил: много ошибок делаешь – есть о чем твоим родственникам погрустить дождем вниз. А раньше я думал, что жизнь – сплошная радость.
Вот, короче, нашли на меня тоскливые мысли, сердце затянуло, я постоял, покурил, погрустил со всеми мертвыми вместе и все-таки весь промок. Ну и решил завернуть в супермаркет. На продмаг он совсем не был похож, скорее уж на московские магазины, только название было незнакомое. Свет внутри был, как в операционной. Люди расхаживали между полок с продуктами, а я почему-то подумал о библиотеке. О том, что здесь еды, как книг, Господи. И все так упаковками зазывало, такое пластиковое и радостное было, что я увлекся даже углем для жаровни.
А соки у них тоже были в канистрах как из-под антифриза. Одного апельсинового сока, может, наименований десять, как в Москве, я в них совсем запутался. Молочные продукты почему-то были под знаком «дневник», перепутали с канцелярией, может (это потом я все слова узнал, а тогда стоило буковку перепутать, и такая ржака наступала). Я молоко больше всего на свете любил, мне мама в детстве его с сахаром мешала. Когда с деньгами плохо было, так я им только и питался, вот была моя детская радость – пить его целый день.
Я бродил по супермаркету и на все смотрел, как будто очнулся вдруг на другой планете. Салатов у них был миллиард только фруктовых. Даже поговорил с одним:
– Нет, ну серьезно, блин, им что, лень фрукты самим порезать и смешать?
Ладно б оливье, но яблоки уж с морковкой-то натереть, ну вообще никакого мастерства не надо.
А еще были у них порезанные и очищенные кусочки арбузов и ананасов. И хлеб был для сэндвичей квадратный, как в фильмах, и булки для хот-догов золотились. И еще куча сиропов. Стал я думать, что купить на полтинник, смотрел на цены, и на все мне было жалко денег. Вот мороженое за четыре доллара, это как вообще, не для этого я на свет появился. А арахисовое масло, которое я мечтал попробовать, два доллара стоило, вот его я решил купить. Расхаживал с ним еще долго, пытаясь заметить камеры, потом увидел паренька, пихающего в рукав пакетик «Эм-энд-эмс», и понял, что где он стоит, там, видимо, и попастись можно. Ну, я верил, что паренек местный, доверял ему. Он еще что-то умыкнул и пошел дальше, насвистывая, а я, чуть погодя, занял его место. В рукав толстовки я напихал незнакомых мне шоколадок всяких, белых и пористых, одна мне особенно понравилась – на ней рычал такой комиксовый лев, очень круто она выглядела. И тут я глазам своим не поверил. Лежал прямо на виду фиолетовый пакетик драже из «Гарри Поттера». «Берти Боттс» они назывались, или как-то так. Я смотрел на них и чесал в затылке, а руку мне колола обертка одного из шоколадных батончиков. Нет, ну я, конечно, понимал, что они не настоящие, и все-таки это была какая-то запредельная штука. Мне обещали, что там может быть и черный перец, и сера ушная, и блевотня, и яйцо тухлое, и зефир, и много чего еще. Я не мог поверить, что в неволшебном мире существует конфета со вкусом тухлого яйца, и американец готов заплатить за нее деньги. Однако запихать в рукав пакетик было не так просто, как батончик. Я примеривался, примеривался, а потом услышал у себя над ухом английскую речь с каким-то странным, похожим на русский, акцентом:
– Нет, это для опытных, пока лучше не надо. Они шумят.
В нос мне ударил еще незнакомый, но явно нечеловеческий запах. Он учуял меня, наверное, раньше, вот и подошел. Я сказал:
– Ну, тогда куплю.
Я водрузил пакетик с «Берти Боттс» на банку с арахисовым маслом и посмотрел на него, того самого паренька, у которого в рукаве была пачка «Эм-энд-эмс». Он был очень красивый – золотистый блондин, волосы у него чуть завивались, как на античной скульптуре, а глаза были большие и светлые, черты – очень правильные, и такие пухлые губы, ну прям античный мальчик, пидорок какой-нибудь типа Ганимеда. Смазливая у него была морда, но в то же время в нем блестело что-то лукавое, живое. Одежда для его облика была странно современная – скейтерские джинсы, длинная, поношенная толстовка. В его конверсах были разноцветные шнурки. И кем он все-таки пах?
– Не благодари за совет. Ты новичок?
– Ну, где я раньше жил, никак нельзя было.
– Тогда не попадись, а то копов вызовут. Они всегда вызывают.
– И плакать не помогает?
– Ну, здесь я еще не попадался, думаю, нет.
И снова акцент его показался мне смутно знакомым, не таким, как мой или отцовский, но близко-близко. Я спросил:
– Говоришь по-русски?
Лицо у него мгновенно сделалось надменным.
– С чего бы это мне по-русски говорить? А ты по-польски говоришь?
– Немного по-украински.
Парень ответил что-то, я ничего не понял по факту, но смысл уловил через его интонацию – так еще хуже. Он закатил глаза, и я понял, кого этот парень мне напоминает. В коллекции у моего давнего благодетеля, чьи книжки с помойки принес отец, были новеллы Томаса Манна и там, среди них, «Смерть в Венеции». Про писателя, который всю жизнь не жил, а потом стал педиком, педофилом и закономерно умер от холеры.
Хотя было у меня подозрение, что я ничего не понял.
В общем, этот парень, он был как Тадзио, тот мальчик, в которого влюбился писака. А может, я так теперь стал думать, оттого что он был смазливый поляк.
– Я – Мэрвин.
Он назвал свое совершенно американское имя и добавил:
– Мэрвин Каминский.
– Боря Шустов. Типа Борис.
– Да я понял. Ты – крыса.
– Ага. А ты? В смысле, я не могу понять, как-то странно пахнешь, непохоже ни на что.
Он почесал в затылке, я услышал легкий перестук «Эм-энд-эмс» в его рукаве.
– Летучая мышь, – сказал он, чуть помолчав. Мне показалось, что Мэрвин смутился. Тут я угорел.
– Типа Бэтмен. Прикольно прям. А ты вроде птичка, или нет?
– Скорее да, чем нет. Но я на самом деле не знаю, короче сложно.
Теперь он почесал затылок, вытащил из-под воротника кулоны на цепочках, их было много, и все они так переплелись, что трудно было различить, какой кулон какой цепочке принадлежит. В ярком свете поблескивали один из знаков Зодиака (Скорпион), ангел, покрытый синей глазурью скарабей египетского вида и какие-то уж совсем мудреные штуки. На запястье у Мэрвина я увидел шрам в виде цифры девять.
– Ну, и кстати, у тебя они тоже гремят. «Эм-энд-эмс».
– А мне везет, вот увидишь.
– У тебя особое везение? Это летучие мыши так делают?
– Не-а, не делают. Это я делаю.
Я посмотрел на него пристально, оценивая, потом улыбнулся:
– Я сейчас хлеб возьму. Для сэндвичей. Знаешь место, где мы с тобой можем поесть?
– А вообще-то знаю.
Когда я вернулся с хлебом, Мэрвин сказал:
– Я все-таки немного знаю русский. Блядь. Ебать. Хуй. – Матерился он, кстати, чисто, почти без акцента, так что я подумал, что он по-русски и еще чего-нибудь знает, просто говорить не хочет.
– А я не сомневался.
Мы оба засмеялись и пошли к кассе. Ему правда повезло, еще повезло мне, и через полчаса мы уже сидели на куцо-зеленом пятачке перед автострадой.
– Серьезно, это типа в Лос-Анджелесе место для того, чтобы поесть?
Сидели мы под мостом, над нами и перед нами с невероятным грохотом проносились машины.
– Сюда точно никто не придет. Никаких тебе бездомных. Никаких там копов, ну, если они тебя не любят, это плюс.
– А тебя не любят?
Он пожал плечами.
– Ну, скорее маму.
Мы глотали пыль, в горле першило, но мне было так клево – ото всех этих тачек, от того, что казалось, будто мост сейчас обвалится.
– Короче, никого вообще. Можно расслабиться. Мне такие места нравятся. Еще я знаю вот что.
Он подобрал какой-то камушек и кинул на дорогу.
– Они не остановятся, чтобы меня обругать. Слишком быстрое движение. А если мне повезет, будет авария.
– Или если не повезет, это уж как посмотреть.
Мы вывалили всю свою добычу прямо на слабенькую травку, сосредоточенно намазывали арахисовым маслом хлеб и заедали сэндвичи шоколадными батончиками, меняясь ими.
– Вкусно, – говорил я.
Еще говорил:
– Да ну, такое себе.
«Берти Боттс» мы тоже разделили – мне досталось тухлое яйцо, я съел его, пожав плечами, не так плохо, как могло быть, а Мэрвина чуть не стошнило от ушной серы.
– Слабак, – сказал я. – Слушай, а ты здесь давно?
– Да вот родился.
– А чего у мамы твоей с копами? Она типа тоже ворует?
– Раз мы поляки, так сразу все и воруем?
– А то не так?
– А вот не так.
Он легко заводился и легко остывал, была в нем такая горячность, скорее даже приятная. Когда я злился, то обычно себе не нравился. А Мэрвин, он становился надменным, тут же задирал нос, за ним забавно было наблюдать. Еще оказалось, что русский он знает, хуже, конечно, чем мисс Гловер, но все-таки объясниться я с ним мог. Выяснилось, и что я отчасти могу понять польский – с помощью украинского. Словом, установилось некоторое взаимопонимание.
– Ну, кем она работает?
– Да не скажу я тебе.
– А отец кем?
– Отцом точно не работает. Моя мамка из Закопане. Это в Карпатах. Типа зимняя столица Польши, но на самом деле там такая скука. Знаешь, что на кладбище там написано? «Нация – это народ и его могилы»! Прям на воротах!
Тут я стал так смеяться, что чуть не подавился сэндвичем.
– Да это ж потому что он Закопан! За-ко-пан! Понимаешь? В земле!
– Закопане, – холодно повторил Мэрвин, а потом тоже засмеялся, я так и не понял, он врубился, или я его просто заразил.
Когда у нас остались только крошки и парочка драже, мы закурили, смотря на проносящиеся мимо машины. Я тоже швырнул камушек, даже не успел заметить, как себя повел водитель, обернулся хоть, заметил ли.
Мы с Мэрвином говорили на смеси английского, польского, украинского и русского, я не понимал, как так вышло, но мне было неожиданно комфортно.
– Но вообще, – серьезно добавил я, – я согласен. Все так. У меня миллион историй про могилки есть.
– И про ямы, и про расстрелы, и про то, как кто-то по пьяни умер. Ты ж русский. У меня прадеда под Катынью расстреляли.
– Может, мой прадед. Он был энкавэдэшник.
Слова «энкавэдэшник» Мэрвин не понял. А вот слова «секретная полиция» и «Сталин» многое для него прояснили. Так мы в первый раз подрались. Мы катались по маленькому, просоленному выхлопными газами пятачку земли и могли в любой момент скатиться вниз, прямо под бешено ревущие машины. Но никто не остановился, всем было плевать, они проезжали слишком быстро, чтобы осознать, что мы в опасности.
И чувство это было освобождающее. В Снежногорске люди один у одного на виду, всегда бы разняли, всем друг до друга дело есть. А тут – ты делай, что хочешь, хочешь даже умирай, совсем один. Я был азартный и остервенелый, даже злой какой-то. Раньше я только с Юриком дрался, ну если не считать уроки от отца, которые скорей уж были избиениями. Зато Юрик был куда крупнее Мэрвина, так что с поляком сладить оказалось проще. И вот, когда я навалился на него, стукнул локтем в грудь, совсем прижал к земле и готовился победить, Мэрвин вдруг сказал:
– Все, надоело теперь.
И выбрался так быстро, так невозмутимо, что я даже не успел его остановить – настолько меня ошеломил этот непринужденный тон. Мэрвин слизнул каплю крови с разбитой губы, пересчитал свои кулончики, улыбнулся уголком губ и сказал:
– Так я о чем говорил, про Закопане значит. В общем, она забеременела, причем от видного человека, намекала, что от политика, ну и поехала делать аборт. Приехала в Германию, значит, а там передумала. Польшу послала. Потом послала и Германию, моталась по Евросоюзу, доехала до Ирландии, а оттуда мотнула в Америку. Вот здесь-то меня и родила. Интересный выдался год, говорит.
– А она – летучая мышь?
– Что ты привязался к летучим мышам-то? Она – волчица.
Про волков я знал. Они, в общем-то, занимаются тем же, чем кошки, только в каком-то мелком смысле, в бытовом скорее. Пасут, значит, людей на вверенной им территории (у кого – деревня, а у кого, например, школа) и не дают им увеличивать прорехи в мироздании.
Это иногда значит: объяснить ребенку, который убивает котов, что они живые и им тоже больно.
А иногда – убить серийного убийцу. В общем, они такие санитары леса, это я знал. Стараются держать людей в чистоте, чтобы хуже не делали и без того израненному миру.
Мэрвин взял одну из оставшихся конфеток, выплюнул, схватился за горло:
– Это прям рвота!
Он заругался на польском, потом на русском.
– А говоришь, везет тебе.
– Ты не представляешь как.
– А у меня трава. Она вкусная.
Будто жуешь желе из клевера.
Мэрвин растянулся на земле, вытянул руку и потрогал витиеватое граффити, какую-то нечитаемую, ну мной уж точно, надпись.
– Короче, мы нелегалы. Поэтому копы ее не любят. А я не люблю рассказывать про духа своего, потому что я мало о нем знаю. У меня отца не было, чтоб рассказать.
Я вспомнил своего отца и пожал плечами. Ну, может и повезло тебе, Мэрвин.
Мэрвин снова закурил, оставил на фильтре пятнышко крови.
– Слушай, я никогда не видел птиц. Ну и, тем более, летучих мышей. Вы правда умеете летать?



