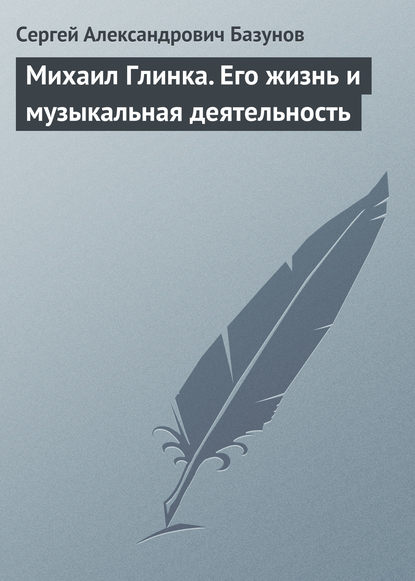 Полная версия
Полная версияМихаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность
Описанные неудачи по службе огорчали, однако, молодого композитора, по-видимому, не слишком сильно. Он продолжал жить в Петербурге, вращался в высшем столичном обществе (гр. М. Ю. Виельгорский, Толстые, Штерич, князья Голицыны) и проводил время довольно приятно. Вместе с тем он не покидал и своих музыкальных занятий, совершенствовал свою технику, прилежно играя этюды Крамера, Мошелеса и других, брал у итальянца Замбони уроки композиции и сам писал довольно усердно, так что в течение двух лет, последовавших за отставкой Глинки (1828—1830), в печати появилась целая серия новых его произведений, делавших имя его все более и более популярным.[3]
Тогда же, то есть около 1828—1830 годов, Глинка успел познакомиться со многими выдающимися литературными знаменитостями того времени, например с Пушкиным, Грибоедовым, Жуковским, бар. Дельвигом, Мицкевичем. Слава его среди избранного петербургского общества была уже так велика, что кн. С. Г. Голицын, желая познакомить Глинку с H. H. Норовым (впоследствии товарищем министра финансов), дал нашему музыканту рекомендательное письмо такого лаконического содержания: «Податель этой записки – Глинка». И результатом такой известности было множество очень лестных приглашений, разнообразивших жизнь композитора самым желательным образом. Так, во главе целой группы приятелей-дилетантов музыки Глинка ездил к князьям Голицыным, жившим в то время на Черной речке, и давал там свои знаменитые серенады, приобретшие потом почти историческую известность, – так много шума наделали в тогдашнем обществе эти веселые музыкальные поездки. Кн. Кочубей, президент государственного совета, приглашал ту же избранную компанию к себе в Царское Село. Предпринимались иногда и более отдаленные поездки, верст за 200 от Петербурга, например по приглашению гр. Строгоновой в ее имение, находившееся где-то около Новгорода. О Глинке и его музыкальных сподвижниках стали появляться кое-где даже печатные отзывы, например в «Северной пчеле» (1827 год). Наконец в 1829 году вышел в свет «Лирический альбом», изданный Н. И. Павлищевым, куда вошла большая часть сочинений, написанных к тому времени Глинкою и уже успевших приобрести самую широкую популярность.
Из этого же периода времени М. И. Глинка вынес и удержал в памяти некоторые темы, впоследствии введенные им в свои оперы. Так, например, возвращаясь в июне 1829 года из своей поездки к водопаду Иматра, он заслушался песней, которую пел его ямщик-чухонец. Мотив понравился ему, он заставил ямщика повторить песню несколько раз, пока не запомнил ее наизусть, и впоследствии эта песня дала ему главную тему для баллады Финна в опере «Руслан и Людмила». Подобным же образом осенью 1829 года Глинке довелось слышать у одного из его знакомых – Штерича – персидскую песню, пропетую секретарем министра иностранных дел. Мотив этой песни послужил потом основой для хора «Ложится в поле мрак ночной» в той же опере «Руслан и Людмила».
Так проходили молодые годы нашего композитора. Успех и слава улыбнулись ему в настоящем, а впереди ожидалось только самое светлое будущее. Но близких Глинке людей беспокоило его здоровье, состояние которого с каждым годом становилось тревожнее. Михаил Иванович, прихварывавший очень часто в период своей петербургской жизни, почувствовал себя особенно дурно к весне 1830 года, чему причиною могла быть также слишком беспокойная и шумная жизнь последних лет. Чем, собственно, был болен Глинка, – об этом мы достоверных сведений не имеем, как не имел их ни сам композитор, ни тогдашние медики, его лечившие. При всем том над ним испытывались одно за другим чуть ли не все средства, известные тогдашней медицине. Так, еще в 1827 году некий доктор Браилов определил у М. И. Глинки «золотушное расположение», и по этому случаю бедный пациент, уже и без того больной, должен был еще выпить 30 бутылок браиловского «декокта». «О Боже, что это был за декокт! – восклицает Глинка в своей автобиографии. – Вяжущий, пряный, густой, отвратительного зелено-болотного цвета». Действовал же этот декокт, по словам страдальца, весьма сильно, именно так, что больной, дотоле страдавший бессонницей, теперь совершенно лишился сна и потом долго не мог поправиться от этого удивительного лекарства. Чего-чего не перепробовали над ним! И серу, и опиум, и хину, и даже меркурий[4]. В 1828 году его лечил некто доктор Гасовский. Испытав все перечисленные средства, он посадил больного в теплую и душную комнату, где пациент, несмотря на жаркую погоду, стоявшую на улице, обязан был просидеть безвыходно целый месяц. Что делать? Приходилось покориться, потому что могло быть и хуже. И действительно, в следующем 1829 году нашелся какой-то доктор Соломон, который тоже посадил Глинку в тропически натопленную комнату, но уже на два месяца. В автобиографии Глинка описывает все эти способы лечения подробно и с большим негодованием.
Наконец к началу 1830 года наш композитор разболелся окончательно, и доктора стали гнать его за границу, где он должен был прожить в теплом климате не менее трех лет. Таким образом, поездка была решена, и весною 1830 года Глинка отправился в путь.
Глава III. Путешествие в Италию
Личность Глинки. – Пребывание в Милане и Турине. – Взгляд Глинки на исполнение музыкальных произведений. – Уроки проф. Базили. – Впечатление, произведенное на Глинку итальянской музыкой. – Известность в Италии и итальянские сочинения Глинки. – Болезнь 1833 года. – Перемена во взглядах на итальянскую музыку. – Поворот музыкальных взглядов Глинки в сторону национальной русской музыки. – Отъезд из Италии. – Вена. – Баден. – Пребывание в Берлине и занятия с Деном. – Берлинские сочинения Глинки и отъезд в Россию.
Перед отъездом за границу, то есть зимою 1829/30 года, Глинка, проживавший тогда в отцовском имении, все собирался отправиться в Петербург, чтобы устроить там концерт в пользу некоего Иванова, молодого певца, состоявшего в то время при петербургской Певческой капелле. Концерт этот нужен был для того, чтобы дать Иванову средства на поездку за границу вместе с Глинкою. Однако расстроенное здоровье и зимнее время не позволили Глинке ехать в Петербург самому, и пособить горю взялся его отец. Он отправился в Петербург, хлопотал там и, с одной стороны, уговорил (c’est le mot[5], прибавляет Глинка) Иванова, который не доверял и колебался, с другой же – упросил директора певческой капеллы Ф. П. Львова дать Иванову разрешение на поездку. Но и этим хлопоты не ограничились. Требовалось еще, чтобы отец Глинки обязался формальною подпиской, что Иванов за границей не будет иметь недостатка в средствах к существованию. И отец дал такую подписку. Вот с какими трудностями приходилось добывать для Глинки провожатых! И в последующие поездки его всякий раз повторялась та же история. Всегда требовалось, чтобы кто-нибудь присматривал за ним и его делами, всегда на всех путях практической жизни ему нужен был провожатый.
Тем более поразительным кажется резкий контраст между этой житейской беспомощностью и той энергией, самостоятельностью и оригинальностью, с какими отыскивал Глинка новые, собственные пути в области музыкального творчества, – той энергией, с которой он освобождался и освободился от всяких провожатых и руководителей в сфере излюбленного им искусства. Когда перечитываешь разные биографические сведения о Глинке и вдумываешься в характер этой крупной, гениальной, но мягкой и незлобивой личности, то начинает казаться, что весь смысл своей жизни композитор мог бы передать такими словами: «Делайте со мною и за меня всё, что хотите, наблюдайте за моим расходом и приходом, сочиняйте для меня какие хотите маршруты в жизни, лечите меня какими угодно декоктами, но не касайтесь моего искусства, о музыке я позабочусь сам…»
Да, правы, кажется, те, кто видит в Глинке едва ли не самого типичного представителя национального русского гения. Действительно, всё русское, достоинства и недостатки, всё тут налицо: и непрактичность, и житейская неумелость, и наряду с этим огромный талант. Обрабатывается этот талант как-то очень по-домашнему и все-таки блещет ярко своим прирожденным светом. Есть тут и русское добродушие, и незлобивость, и вместе с тем есть глубокий, тоже какой-то непрактичный, однако хороший, настоящий ум, приправленный к тому же порядочной дозою юмора. Но возвратимся к нашему рассказу.
25 апреля 1830 года наши путешественники двинулись в путь. Конечной целью путешествия была Италия, дорога же туда лежала через Германию. Во многих немецких городах и городках останавливались, чтобы отдохнуть, послушать музыку и полечиться. Музыку слушали, а иногда и сами играли или пели и, по-видимому, производили впечатление, так что во многих местах городские обыватели сходились слушать русских артистов-путешественников. Что же касается лечения, то, разумеется, и в Германии нашлись ненавистные Глинке серные воды и ванны. Несмотря на то что угнетающее действие этих вод и ванн было знакомо композитору еще по Кавказу, он безропотно пил, что прописывали, и купался, в чем заставляли купаться. «Тут (в Германии) случилось то же самое, что и на Кавказе, – замечает Глинка о своих ваннах, – только не варили, как на Кавказе, в невыносимо горячей воде». Таким образом, и здесь снисходительный пациент отыскал некоторое «примиряющее начало».
В сентябре того же года путешественники перебрались через Альпы, полюбовались берегами Лаго-Маджоре и вскоре прибыли в Милан. Внешность красивой столицы Ломбардии и особенно знаменитый Миланский собор поразили Глинку необычайно.
«Вид этого великолепного, из белого мрамора сооруженного храма и самого города, – говорит он, – прозрачность неба, черноокие миланки с их вуалями приводили меня в неописанный восторг». Словом сказать, давнишняя мечта композитора осуществилась: Италия приняла его в свои объятия; душа музыканта наполнилась впечатлениями красоты и поэзии, и в автобиографии мы находим целый ряд восторженных описаний итальянской природы и произведений искусства.
Осмотрев Милан и устроившись в нем несколько более оседло, путешественники предприняли поездку в Турин, чтобы навестить проживавшего там петербургского знакомого Глинки, Штерича. В Турине нашему композитору довелось слышать некоторых хороших оперных исполнителей и между прочим известного в то время певца Дюпре. Отзыв о нем Глинки имеет некоторое значение, потому что характеризует его взгляды на исполнение музыкальных произведений вообще. Вот этот отзыв: «Голос его был тогда не силен, но свеж; пел он уже и тогда несколько по-французски, то есть: il relevait chaque note avec affectation[6]».
Подобным же образом, говоря в другом месте о Рубини, Глинка замечает: от нас «не ускользали самые нежные sotto voce[7] которые, впрочем, Рубини не доводил еще тогда до такой нелепой степени, как впоследствии», и проч.
Таким образом, наш композитор восставал против всего вычурного, против манерности и всякой аффектации в музыке. Его идеалом была простота и отчетливость, «опрятность исполнения», по любимому выражению Глинки; причем эта «опрятность» в его представлении не исключала ни разнообразия, ни смелости, ни даже капризной причудливости, – поскольку, разумеется, эти качества не переходят границ изящного. Кто отказался бы и в наше время от исполнителя, обладающего такими достоинствами?..
В начале ноября 1830 года путешественники возвратились в Милан и, по-видимому, решили приняться за работу серьезно. Иванов занялся обработкой своего голоса под руководством учителя пения Э. Бианки, а Глинке рекомендовали в качестве учителя композиции известного в то время директора Миланской консерватории, Базили. Нужно сказать, что, порываясь с такой настойчивостью в Италию, Глинка имел в виду несколько целей; о поправлении здоровья он думал очень мало, главным же образом его манили в Италию ее природа, искусство и особенно музыка; в частности, он рассчитывал пополнить там свои пробелы в теории музыки и композиции. Но именно эта последняя цель, как мы сейчас увидим, и не была достигнута в Италии. Директор Миланской консерватории оказался весьма неподходящим преподавателем. Будучи человеком сухим, педантичным и утомительным, он повел дело преподавания по методе, вполне отвечавшей всем свойствам своего изобретателя. Бедный ученик скоро пришел в совершенное отчаяние. Между прочим он рассказывает, как именно велись уроки. Его заставляли работать над гаммой в четыре голоса следующим образом: один голос вел гамму целыми нотами, другой – полутактными, третий – четвертями и четвертый – восьмыми. «Это головоломное упражнение клонилось, – замечает Глинка, – по мнению Базили, к тому, чтобы утончить музыкальные мои способности, sottilizzar l’ingegno, как он говорил, но моя пылкая фантазия не могла подчинить себя таким сухим и непоэтическим трудам». И действительно, такие педантические упражнения могли не столько утончить музыкальные способности Глинки, сколько – и гораздо вернее – иссушить его творческую фантазию. Поэтому он скоро прекратил эти утомительные занятия, отказавшись от дальнейших услуг проф. Базили.
Что касается итальянской музыки, которая продолжала восхищать композитора, то в этом отношении описываемая поездка Глинки должна быть признана весьма удачною. В зимний сезон 1830/31 года в Милане пели многие музыкальные знаменитости того времени, например Паста, Рубини, Гризи, Галли; на сценах же двух оперных театров Милана постоянно давались оперы Россини, Доницетти, Беллини и других композиторов. Глинка, успевший познакомиться с семейством гр. Воронцова-Дашкова (тогдашнего русского посланника при сардинском дворе), постоянно пользовался его ложей в театре Carcano и таким образом мог слышать все лучшее из итальянского репертуара. Прибавим, что наибольшее впечатление из этого репертуара производили на нашего композитора оперы «Анна Болейн» Доницетти и «Сомнамбула» Беллини. Об исполнении последней оперы Глинка рассказывает так: «Пели с живейшим восторгом: во втором акте (артисты) сами плакали и заставляли публику подражать им… Мы, обнявшись в ложе посланника со Штеричем, также проливали обильный ток слез умиления и восторга». Если бы Глинка мог тогда знать, как скоро и как радикально изменятся его взгляды на итальянскую музыку!..
Там же, то есть в салоне гр. Воронцова-Дашкова, наш композитор познакомился с представителями многих аристократических семейств Италии, однако не брезгал и гораздо менее аристократическим, но, быть может, более для него полезным обществом. В скромной квартире Глинки постоянно собиралось веселое общество второстепенных актеров, певцов, певиц и тому подобного люда; все держали себя просто и не стесняясь, всем предоставлялось делать кто что хочет, часто пели, играли и проводили время весело и небесполезно.
Отчасти благодаря такому разнообразию и многочисленности знакомств наш композитор довольно скоро начал пользоваться некоторою известностью в Италии. О нем и о товарище его Иванове уже стали говорить как о двух maestro russi, и в качестве такого maestro Глинка должен был давать публике произведения своего русского вдохновения. Однако, увы! Ничего русского Глинка итальянцам не дал, и все написанное им в Милане имеет вполне итальянский характер (например вариации на тему из оперы «Анна Болейн», на темы из балета «Chao Kang», «Rondo» на тему из оперы «Монтекки и Капулетти» Беллини и проч.; все относится к 1831 году).
В течение последующих двух лет Глинка объехал почти всю Италию, побывал в Генуе, Риме, Неаполе, где познакомился с некоторыми итальянскими знаменитостями, как, например, Беллини, Доницетти, а также с проживавшим тогда в Неаполе знаменитым русским художником Карлом Брюлловым. Из музыкальных работ его этого периода можно отметить «Серенаду» на темы из оперы «Сомнамбула». Эта пьеса, написанная для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, в июле 1832 года была исполнена с большим успехом лучшими миланскими артистами и еще более увеличила популярность русского композитора. В том же 1832 году Глинка сочинил другую серенаду на темы из «Анны Болейн» Доницетти и вслед за тем написал несколько романсов. Большая часть этих итальянских сочинений Глинки писалась по просьбе и для разных итальянских знакомых нашего maestro, которым они и посвящались. При этом нельзя не заметить, что иногда эти работы – вернее характер и назначение их – бывали обременительны для Глинки.
Вот что, например, рассказывает он об одной из таких работ, предпринятой для некоей певицы Този. Зимою 1832 года эта певица должна была дебютировать в Милане, в опере Доницетти «Фауст». «Так как в партитуре, – говорит Глинка, – не было, по ее мнению, приличной каватины для выхода, то она попросила меня написать ее. Я исполнил ее просьбу и, кажется, удачно, т. е. совершенно вроде Беллини, как она того желала; причем я по возможности избегал средних нот ее голоса, которые были наиболее плохи. Ей понравилась мелодия, но она была недовольна, что я мало выставил ее средние, по ее мнению лучшие, ноты в голосе». Вследствие этого наш маэстро должен был переделывать каватину по указанию притязательной артистки и тем не менее угодить ей не мог. Тогда-то Глинка дал себе зарок не писать более для итальянских примадонн.
При всем том в 1832 году Глинка написал еще несколько «итальянских» вещей, то есть произведений, созданных совершенно по шаблону итальянской музыки и специально рассчитанных на итальянские вкусы. Затем творческие занятия Глинки приостановились до середины 1833 года, потому что здоровье нашего маэстро, поправившееся было в первое время его пребывания в Италии, вскоре опять стало ухудшаться, и к началу 1833 года он чувствовал себя не лучше, чем в Петербурге, до отъезда за границу. Нужно ли говорить, что во время пребывания Глинки в Италии лечение продолжалось почти без перерывов и отличалось обычною фантастичностью? Так, некий врач Филиппи для чего-то прожег ему затылок ляписом, доктор Франк наложил на живот какой-то злокачественный пластырь, который, по словам Глинки, в короткое время «погубил» его нервы и довел «до отчаяния и до тех фантастических ощущений, которые называются Sinne-Täuschungen, hallucinations[8]». Наконец в феврале 1833 года, по совету врачей, наш композитор предпринял поездку в Венецию. Но, едва успев осмотреть достопримечательности города, он опять захворал и снова попал в руки врачей. На этот раз страдальцу начали промывать желудок, а потом пустили кровь. Нужно ли упоминать, что и в Италии к услугам Глинки были предоставлены ненавистные ему серные воды и ванны?..
Мы так часто говорим о недугах нашего композитора потому, что они действительно составляли крест всей жизни его. Лечение же этих недугов и сами лекаря часто бывали курьезны до невероятной степени. Вот еще один пример. В 1831 году в Милане судьба столкнула Глинку с неким синьором Поллини, который был, по его словам, очень замечательный музыкант, искренно любил свое искусство и писал оперы. Но заметив, что в этом роде он ничего не произвел особенного, Поллини решил испытать свои силы на другом поприще, и успех скоро увенчал его новые труды. Он нажил целое состояние, изобретя декокт «rob antisyphilitique», бутылку которого, под названием «eau de M. Роllin»[9], продавал по червонцу. Нечего и говорить, что этот декокт не миновал Глинку как субъекта «золотушного расположения». Однако действие нового лекарства оказалось столь вредным, что сам изобретатель скоро испугался и посоветовал прекратить лечение.
Все эти тяжелые ощущения постоянных страданий не могли, конечно, не отразиться и на душевном состоянии Михаила Ивановича. Болезненное настроение души сказалось уже в его последних итальянских произведениях, а по поводу написанного около этого времени «Трио» (для фортепиано, кларнета и фагота) артисты-исполнители покачивали даже головами и что-то говорили о «disperazione»[10] маэстро. Постепенно им стало овладевать чувство недовольства, неудовлетворенности, скоро перешедшее в определенное ощущение тоски. Итальянские впечатления с каждым днем все более и более теряли свою яркость и увлекательность. Сама музыка Италии, прежде так восхищавшая композитора, теперь как будто тоже потеряла для него свое значение. Правда, эта музыка оставалась все такой же упоительно нежной и сладкой, но теперь она начинала казаться Глинке именно уже слишком сладкой и даже приторной. «Недостаточно разнообразна эта музыка, – думалось теперь композитору, – и при недостатке разнообразия еще чего-то другого не хватает ей». Но чего же именно в ней не было? И Глинка упорно задумывался над этим вопросом. Начиная с 1833 года, он вообще очень мало писал, но зато тем больше размышлял и постепенно пришел к заключению, что итальянской музыке, главным образом, недоставало глубины. И чем более прояснялись взгляды Глинки на итальянскую музыку, тем труднее и труднее становилось ему подделываться под царившее кругом итальянское «sentimento brillante», которое композитор определяет как «ощущение благосостояния – следствие организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца». Действительно, все кругом веселилось, пело и наслаждалось жизнью и своим sentimento brillante, a северный музыкант все более и более задумывался и уходил в себя. «Нет, – думал он, – мы, жители севера, чувствуем иначе; впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу…» «У нас или неистовая веселость, или горькие слезы». «Даже любовь у нас всегда соединена с грустью». И постепенно в душе композитора, на время усыпленной было сладкими мелодиями Беллини и Россини, начали воскресать старые, полузабытые напевы далекого детства на родине.
В последнее время его часто можно было видеть с опрятным изданием Giovanni Ricordi в руках: там были собраны все итальянские произведения Глинки, все то, что в разное время написал он в угоду жителям Милана. Молча и машинально перелистывал автор красивое издание и задумывался, убеждаясь, что никогда он не мог быть искренним итальянцем и что искренно он мог писать только по-русски.
Таким образом, Италия постепенно теряла для Глинки все свое очарование; итальянское искусство стало удовлетворять его все меньше и меньше; в душе возникали задачи и планы совершенно иного, нового направления. Наконец нашего маэстро потянуло домой, и в скором времени это новое стремление усилилось до необычайной степени. Овладевая душою Глинки все более и более, оно наконец приняло совершенный характер душевного недуга, известного под названием «ностальгии» (тоски по родине). Так совершался в душе композитора тот душевный переворот, который отвлек его от бесплодной и неблагодарной роли подражателя и впоследствии направил на путь самостоятельного творчества в сфере русской народной музыки.
В июле 1833 года Глинка получил известие, что сестра его, Наталья Ивановна Гедеонова, приехала с мужем в Берлин, и он тотчас решил ехать туда же (из Берлина было все-таки поближе домой, да и сестру он любил очень искренно). Таким образом, в июле 1833 года Глинка покинул Италию и при этом, к удивлению своему, не испытал ни сожаления, ни вообще какого бы то ни было тягостного чувства. В самом деле, не странно ли? Давно ли наш композитор так горячо стремился в Италию, тогдашний центр музыки par excellence[11], и не более как три года спустя в этом самом центре, так сказать у очага итальянской музыки, тот же самый Глинка осудил ее – и осудил со всею решительностью глубоко убежденного человека. Не заключался ли в этом осуждении настоящий и самый беспристрастный приговор итальянской музыке вообще?..
Путешествие в Берлин предпринято было через Тироль и Вену. После роскошной итальянской природы Вена показалась Глинке несколько мрачною, особенно, может быть, по причине усилившихся физических страданий. Впрочем, в австрийской столице ему пришлось пробыть очень недолго: врачи скоро выпроводили его на воды в Баден. «Воды баденские, – пишет Глинка, – весьма сильны; они состоят из серы и квасцов…» Словом, на сцену опять выступили смешные серные воды. Однако ему в то время было не до смеха. Здоровье его становилось хуже, чем когда-нибудь; с другой стороны, открылась тоска по родине, к тому же и недавно пережитые в Италии душевные волнения далеко еще не улеглись и давали себя чувствовать очень осязательно. Перечитывая в автобиографии описание этого периода жизни Глинки, выносишь о его личности совершенно лирическое впечатление. В это время у него служил какой-то нанятый в Вене лакей; положение страдающего композитора было так тяжело физически и нравственно, что тронуло сердце даже этого лакея. Ему обязан был Глинка многими мелкими и даже не мелкими для наемного человека услугами (живя в дорогом Бадене, композитор успел совершенно истощить свой запас денег). Этот добрый человек ухаживал за больным иностранцем самым добросовестным и внимательным образом, развлекал его сколько мог, гулял с ним по Бадену, а гулять с Глинкою в то время уже значило водить его – так слаб был наш бедный соотечественник. И вот однажды, во время такой печальной прогулки, прислужник завел его к какому-то католическому священнику. В доме оказалось фортепьяно. Глинка сел и стал перебирать грустные аккорды, постепенно увлекаясь своею импровизацией. Наконец из-под пальцев музыканта полились такие скорбные звуки, что добрый патер был поражен и воскликнул: «Как можно в ваши лета играть так грустно?..»

