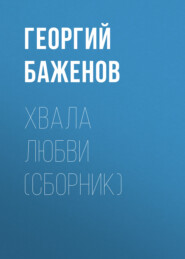
Полная версия:
Хвала любви (сборник)
И Гурий взял себя в руки, прижал свое сердце, не торопясь разделся, подхватил сумку с вином. С этим вином в руках, с растрепанными волосами, в тонких цветных носках, с пузырями на коленях старых потертых брюк, с растерянными глазами выглядел Гурий весьма забавно (что и отметил про себя Сережа невольной внутренней ухмылкой). Впрочем, все это не имело никакого значения, и Сережа решительно распахнул дверь – ближайшую по коридору направо.
Там, за распахнутой дверью, встретили Сережу восторженным ревом: народ ждал вина. И народ его дождался!
Несколько девушек бросились к Сереже, поочередно целуя его в щеки:
– Молодец ты наш! – А Сережа, перекрывая общий гвалт, возвестил зычным голосом:
– A y нас гость – Гурий Петрович Божидаров! Прошу любить и жаловать.
– Да чего там, можно просто Гурий, – смутился гость.
– Ой, да это же дядя Гурий! – обрадованно воскликнула Вера Салтыкова. – Девчонки, я вам рассказывала, это мой земляк, художник! Здравствуйте, дядя Гурий! – она первая подпорхнула к нему и протянула крепкую ладошку.
– Здравствуй, Верунька! – тоже обрадовался Гурий: всегда ведь легче, когда в чужой компании есть хоть один знакомый человек.
– Вот, познакомьтесь, дядя Гурий, – начала представлять своих подруг Вера, – это Оля Левинцова, она у нас издалека приехала, из Киргизии, из села Петровка.
– Очень приятно, – сказал Гурий: ему и в самом деле понравилась Оля – со спокойной нежной улыбкой, светловолосая, очень приветливая и, кажется, с ровным добрым характером.
– А это – другая Оля, Корягина.
– Очень приятно, – повторил Гурий. И эта Оля ему понравилась: все время улыбается, с глубоким грудным голосом и озорными чертиками в глазах.
– А это – Нина Тремасова. Гроза мужчин! – При этих словах Нина громко рассмеялась: ее черные глаза, темные волосы, яркие губы и сочные белые зубы делали ее похожей на цыганку. И стан у нее был тонкий, гибкий – тоже как у цыганки. Гурий в открытую залюбовался ею:
– Очень приятно!
– Это – Валя Ровная. Тоже из Киргизии, из Петровки.
– Здрасте! – Валя Ровная сделала реверанс, и Гурий не знал, то ли это всерьез, то ли в шутку, и на всякий случай спросил:
– Вы не в балетной школе учились?
– Ага, в балетной. Штукатуром на строительных подмостках. А вы, случайно, не учитель пения?
Все в комнате так и грохнули от смеха.
– Она у нас такая, востренькая на язык, – поспешила объяснить Вера. – Не обижайтесь, дядя Гурий.
– Да нет, ничего, ничего…
Гурия посадили за празднично накрытый стол рядом с широкоплечим парнем, который довольно хмуро буркнул под нос:
– Володя. Залипаев, – когда ему пришлось пожимать руку Гурию. (Не любил Володя так называемых интеллигентов, тем более неизвестно откуда свалившихся на чужой народный каравай. А что Гурий пришел со своим вином, он об этом не знал. Да если б и знал, все равно не хотелось ему верить, что народ и интеллигенция могут иметь общий язык. Однако чуть позже, когда выпили покрепче, Володя Залипаев тряс Гурия за плечо и все повторял: «Не, я че хочу сказать-то, Гурий Петрович, бюрократов надо мести из нашей страны железной метлой. Вот у нас, в Красноярске, бюрократов меньше. А почему? Потому что там бюрократам не климат. Ага…»)
И последний, с кем пришлось познакомиться Гурию, был высокий, стройный, атлетического сложения молодой человек, который появился в комнате, когда все почти уселись за стол. Появился молодой человек под восторженный вопль публики: в руках он держал противень, на котором дымилось и источало тончайший аромат запеченное в майонезе свежайшее мясо!
– Прошу, господа! – И Леша («Алексей Герасев, младший лейтенант милиции», – как представился он позже Гурию Петровичу) ловким и безукоризненно точным движением водрузил противень на большую, опрокинутую вверх дном кастрюлю. Ах, что это было за мясо, какой аромат, какая душистость! – так и потекли у всех слюнки… И – пиршество началось.
Да, началось пиршество. Пили, ели, смеялись, Володя Залипаев ухаживал за светловолосой Олечкой Левинцовой (девушкой с улыбкой Джоконды), Леша Герасев – за Ольгой Корягиной (девушкой с глубоким грудным голосом Мэрилин Монро), Сережа Покрышкин, естественно, за Верунькой Салтыковой, ну а Ниночка Тремасова (ах, цыганка!), Валя Ровная (ах, востренькая на язык!) и Гурий Божидаров веселились сами по себе. Все было, как обычно бывает в компаниях, одно для Гурия оказалось неожиданностью – естественность и непритязательность происходящего. Никто не старался казаться лучше и умней, чем был, во всяком случае, даже девушки не кокетничали и не капризничали понапрасну, а вели себя так, будто всюду была родня, которой нечего пускать пыль в глаза. Выходит, и он, Гурий, не казался им каким-то непонятным, особым, чем-то не от мира сего? Да, так и было, и Гурий был благодарен им за эти минуты полного растворения в их компании. Странно, не помнилось что-то за последнее время, чтобы в московских, истинно московских компаниях он чувствовал себя так же свободно, естественно, и все это потому, что никто не корчил из себя того, кем в действительности не был и быть не мог.
А уж когда к нему подсела Олечка Левинцова (девушка с улыбкой Джоконды) и прямо спросила его:
– Вы любите целоваться, Гурий Петрович? – он и вовсе потерял ощущение реальности, сказал:
– Не знаю… Я, кажется, давно уже не целовался.
– Ах, я очень люблю целоваться… Знаете, Гурий, – загадочно улыбнулась Олечка, – можно, я буду называть вас Гурий? Знаете, мне восемнадцать лет, я никогда в жизни не видела настоящего художника, а вы такой простой, добрый, хороший и почему-то грустный, ну, почему вы такой грустный, Гурий? Не грустите, не нужно, никогда не видела живого художника и я не представляю, как они целуются, поцелуйте меня, Гурий, пожалуйста.
Гурий, опешив, поцеловал ее в щеку, а Олечка рассмеялась:
– Ах, не так, Гурий, по-настоящему, понимаете? В губы, пожалуйста! – Она закрыла глаза, обвила его шею руками и подставила для поцелуя прекрасные свои молодые губы. Что делать? Гурий вначале легко, нежно прикоснулся губами к ее губам, но столько мягкости, теплоты оказалось в этом легком взаимном прикосновении, что Олечка еще более требовательно потянулась к нему, и Гурий не устоял, закрыл глаза, обнял ее, молодую, гибкую, свежую, и поплыл, поплыл мир перед его сомкнутыми глазами.
А потом, хмельной, счастливый и свободный, он танцевал с Ниночкой Тремасовой, которая смеялась над его неуклюжими движениями, а сама, черная огненная цыганка, выделывала такие «па», что обмирало сердце у бедного пьяненького и стареющего ловеласа Гурия Петровича Божидарова.
Еще он помнит, как сидел на кухне рядом с Сережей Покрышкиным, на коленях которого непринужденно, как кошечка, устроилась Верунька Салтыкова, как пил с Сережей вино на брудершафт, а Сережа все повторял: «Не отрывайся от народа, старик, и будешь великим художником!» И хотя он говорил полную чушь, он был прав, этот слесарь-сантехник, и Гурий Божидаров соглашался с ним.
Сквозь туман помнится и то, как спорил Гурий с младшим лейтенантом милиции Лешей Герасевым. Гурий твердил: «Правда, правда нужна!» А Леша повторял: «Порядка мало, мало порядка, Гурий Петрович!» – И никак не могли они понять друг друга.
…А утром Гурий проснулся – никого в комнате. На столе записка:
«Ушли на работу. Дерзай, художник! Опохмелись, да и за дело. Не забывай нас! Всегда твои – ребята».
И только было хотел Гурий опохмелиться, как в комнату вошла незнакомая девушка. Была она в платье цвета хаки, с большим вырезом на груди и, кажется, без лифчика: красивая ее высокая грудь так и трепетала под нежной тканью платья.
– Кто вы?! – удивленно и строго воскликнула она.
– Я – Гурий Божидаров. Художник. А вы кто?
– Я?! Я – хозяйка комнаты, Татьяна Лёвина. Что вы тут делаете? – и она с брезгливостью осмотрела вчерашний праздничный, а нынче такой загаженный стол. – Ну-ка, давайте, художник, собирайтесь – и вон отсюда. Вон!
– Но я… – залепетал Гурий. – Мне… Вот записка.
Татьяна быстро пробежала глазами текст:
– Это ничего не значит! Быстро, быстро… уходите, да, да, я вам говорю! Художник он… Нагадили здесь, как свиньи, а мне убирать?
– Но как же, – пятился к двери Гурий, так, кстати, и не успевший опохмелиться, – как же… где вы были, если вы хозяйка?
– Я-то?! – сверкнула глазами Татьяна Лёвина. – Я в ночную смену работала, а вот вы тут что делали?! Вон, вон отсюда! – и она, выпихнув Гурия, в ярости захлопнула за ним дверь.
А он, Гурий, еще какое-то время постоял за дверью, чувствуя себя старым побитым псом. Заскулить хотелось, ох, заскулить, и в то же время, странное дело, так ему понравилась эта девушка, гневные ее сверкающие глаза, хозяйская твердая властность движений и – как контраст – эта ее нежная, высокая, полная грудь, сводящая его с ума. Вот бы прижаться к этой груди, зацеловать ее, обезуметь, утешиться… вот бы… Так ему вдруг захотелось любви, нежности, счастья обладания этим роскошным телом… И что же?! А ничего. Пришлось помятому, побитому, так и не опохмелившемуся – тащиться домой, к Ульяне, к семье, где все было буднично и прозаично.
Однажды, ближе к весне, Ульяна собрала какой-то сверток и на полдня исчезла из дома. Когда готовила сверток, потихоньку всхлипывала, и Гурий с удивлением покосился на жену:
– Ты чего это? Случилось что?
– Не твое дело! – отрезала Ульяна.
Гурий пожал плечами, нахмурился и ушел в свою комнату – работать. В последнее время Ульяна все чаще грубила ему, ни с того ни с сего срывалась на крик; впрочем, он догадывался: дело, скорей всего, в тех малых деньгах, которые он зарабатывал, но где и как он мог заработать больше? Да и не хотел он быть рабом денег в угоду жене. Чем больше художник принадлежит семье, тем меньше в нем внутренней свободы; а без свободы не может быть творчества, даже самого пустячного и непритязательного.
Из дома Ульяна ушла утром, а вернулась к обеду. Гурий слышал из своей комнаты, как она громко и, казалось, рассерженно гремела кастрюлями, как раздраженно хлопала дверцей холодильника, как неожиданно разбила какую-то чашку и долго чертыхалась по этому поводу.
Потом на кухне все стихло, будто вымерло, и Гурий невольно насторожился: что такое?! Выглянул из комнаты – Ульяна сидит за кухонным столом, спиной к Гурию, печально свесив голову, подперев руками лицо.
Гурий осторожно, чуть не на цыпочках, приблизился к жене. И поразился. Перед Ульяной стояла початая бутылка водки, рюмка, а в маленькой миске – маринованные уральские маслята. Гурий обошел кухонный стол, сел напротив жены.
– Ты чего это? – поинтересовался он.
– Чего тебе? – не грубо, но будто отмахиваясь от мужа, как от мухи, спросила Ульяна.
– Водку пьешь? – кивнул Гурий на бутылку.
– Хочу – и пью. Вам, мужикам, можно, а нам нельзя?
– Что случилось? – взяв себя в руки, стараясь не раздражаться, спокойно спросил Гурий.
– А то, что подлецы вы все, мужичье, и больше ничего!
– А конкретно?
– Конкретно? Да иди ты, знаешь, куда…
– И все-таки?
Ульяна отвечать не стала, налила себе рюмку, усмехнулась, выпила и закусила грибком.
Гурий смотрел на нее во все глаза: первый раз видел, чтобы жена пила в одиночестве. Муж рядом, а она пьет как ни в чем не бывало, надо же…
– В больницу я ездила, – наконец призналась Ульяна. – К Вере.
– К какой Вере?
– К Веруньке Салтыковой. Забыл землячку? – ухмыльнулась Ульяна. – С которой пьянствовал в общежитии.
– Я не пьянствовал. Я в гостях был.
– Ну-ну, не пьянствовал он… Все вы не пьянствуете. Чистенькими живете. А потом девки с пузами от вас ходят.
– Ты чего болтаешь-то?!
– А то и болтаю, что аборт Верка сделала. Вот что!
– Аборт? Как аборт?
– Да не бойся, не от тебя. Помнишь, слесарь-сантехник приходил к нам, Сережа? Так вот от него.
– Так ведь он… Ты же сама нахвалила его, вот, мол, мужик настоящий, один раз пришел – и все починил.
– У нас-то – да, починил, а в другом месте, может, жизнь поломал. Веркину глупую жизнь.
– Что, плохо с ней?
– Да нет, терпимо. Чего молодой девке сделается? А только жалко ее… предупреждала я дуреху, просила… Так нет, неймется им, дурам.
– Да, жалко Веруньку, хорошая девчонка. – Гурий достал из буфета рюмку и тоже налил себе водки.
– Ага, жалко им, кобелям. Как лезть – так не жалеете?
– Теперь все виноваты?
– Все не все, а мужичье – точно. Спрашиваю: чего он, Сережка-то, не женится? А она: не верит он, что от него. Видал, как? Спать с ней – это он, а отвечать – это не он.
– Да нет, он. Кто еще? – нахмурился Гурий. – Я сам видел: у них любовь. Точно.
– Любовь, – усмехнулась Ульяна. – А спят все вместе, вповалку. Небось сам знаешь? Тоже спал с ними общим кагалом.
– Причем здесь я?
– А при том, что однажды придет какая-нибудь и скажет: здравствуй, Гурий, прими мои поздравления – ты отец моего ребенка!
– Ладно болтать-то.
– А чего? Увиливать начнешь? Вон Верунька сказала Сережке: от тебя забеременела-то, а он: откуда я знаю? Мол, сколько раз приходил, а среди вас, девок, то один мужик спит, то другой. «Так мы же так просто, по-братски», – плачет Верунька. «А я откуда знаю?!» – говорит Сережка. И правильно говорит!
– Выходит, конец любви? Обманул девку? А я-то хотел сделать его портрет.
– Известна ваша любовь… До постели – любовь, а дальше – до свиданья!
– Жалко девчонку. – Гурий взялся было за бутылку, но Ульяна вырвала у него водку из рук:
– Да пошел ты!
Спрятала бутылку в холодильник, обернулась к Гурию разъяренная, с горящими глазами и едва ли не с ненавистью прошипела:
– Иди, работай, художник! Хватит лясы точить. Ну?!
Гурий пожал плечами, съежился, как поколоченный пес, и поплелся в комнату: может, работать, а может – просто так сидеть, думать, мечтать.
Глава IV
…Той весной Бажену исполнилось чуть больше года, и хорошо, конечно, было бы прожить с ним долгое благодатное лето на чистом воздухе, в родном домашнем приволье.
Что делать в Москве? Нечего делать. И Вера с Баженом уехали на Урал, в родной поселок. Чуть позже, с началом летних каникул, должен приехать в Северный Гурий с ребятами, а пока Вера с Баженом отправились на Урал вдвоем.
Огород копали сразу после майских праздников. Земля подсохла; лишь кое-где, по низким затененным мыскам близ заборов или надворных построек прощально полеживал ноздревато-крупистый грязный снежок, однако по огородью земля мягко, желанно принимала хозяйскую стопу, будто прося: вскопай, взрыхли, окропи меня семем – буду тебе благодарна, воздам сторицей, придет только время… Правда, на Верин вопрос: «Не пора ли копать?» – отец только хмыкнул: мол, рано девке подол задирать, коли еще не заневестилась, но Вера не послушалась отца, вышла на огород с лопатой – не терпелось окунуться в горячую желанную работу. А что до хмыканья отца, то она его вполне понимала: все еще не может простить, что не по-людски у дочери получилось: сначала родила, потом в невесты угодила. Да и в невесты ли еще? В жены ли настоящие? Вот жизнь-то покажет, ох, покажет…
Копать Вера начала с дальнего уголка огорода, от той березы, которую отец посадил, когда двадцать один год назад появилась на свет божий Верунька. Теперь, рядом с Вериной, давно окрепшей, густо-тенистой в летнюю пору березкой поднялся еще один росток. Посадила его сама Вера в прошлом году в честь рождения Бажена. И росток этот был не березка, а крохотный кленок, во славу мужичка, который, как ни хмурился Верин отец, все же продолжал именно его род, отцовский: фамилию Вера носила прежнюю – Салтыкова, под этой же фамилией жил и Важен.
Рядок за рядком продвигалась Вера вперед, копала неспеша, с упоенным чувством живой телесной радости, которая окатывала ее иной раз с головы до ног как бы совершенно без причины, просто от избытка чувственного наслаждения: теплое солнышко, теплая земля, горячая испарина по спине и плечам, рядом копошится крохотный ее сынок – с детской лопаткой в руке, чумазый, с белозубой простодушной улыбкой на пышнощеком лице… может, это и есть счастье?
Она не думала об этом, просто испытывала радостную слиянность нынешнего душевного настроя и того дела, которым занималась в эти минуты. Да еще дом родной рядом, да сынок-глупышок копошится поблизости, да еще и сам воздух словно напитан сладостью собственных детских воспоминаний и радостей…
Что еще человеку надо?
Конечно, посмотреть на ее жизнь сторонним взглядом – ой сколько бед да сложностей навалилось на молодую девку, уехавшую искать счастья в Москву, а с другой стороны, вот она, Верка, нисколько не потерявшая себя в столицах, не растерявшаяся от неожиданностей и козней жизни, наоборот, с достойным терпением несущая свой жизненный крест на щупленьких, будто еще совсем девичьих плечах. Откуда это в ней?
Ведь тогда, давно, в тот первый день, когда она осталась одна в общежитии, в той комнате, которая должна была стать для нее родным жилищем на долгие-долгие годы, когда опустошенно присела на краешек жесткой казенной кровати, ведь тогда именно душу ее окатил неожиданный и непонятный ужас, тоска окатила, страх, одиночество. И так стало жалко самое себя, что невольно, как у бездомного щенка, вырвался из груди стон не стон, а словно поскуливание какое-то, повизгивание, и она, обхватив голову руками, повалилась лицом на подушку и долго рыдала-плакала, пока в конце концов не унялась, не успокоилась от бессилья и душевного опустошения.
Странно, мечта ее, казалось бы, сбылась: она в Москве. Устроилась в ремонтно-строительное управление по лимиту, ей дали общежитие, живи, работай, радуйся, а она вдруг впала в страх, в тоску, в отчаяние. И, пожалуй, сильней, чем в этот первый день, никогда более не испытала такого страстного желанья уехать, бросить все: Москву, работу, комнату, лишь бы вернуться домой, ко всему привычному, знакомому, родному.
Вот когда она почувствовала (тогда, в тот первый день в чужом казенном общежитии): юность кончилась – началась новая, одинокая, серьезная, взрослая жизнь.
Да, почувствовала это. Страхом, тоской, отчаянием, захлестнувшими душу, почувствовала.
Но поняла ли? Осознала ли до конца?
Нет. Не поняла. Не осознала до последнего предела. Не могла еще осознать. Ибо слаба была душой. И телом. И духом.
Оттого и мучилась так долго. Оттого и слез столько пролила, прежде чем твердо, ясно и окончательно поняла однажды: она – взрослая. И спрос с нее – тоже как со взрослой.
Но до осознания этой истины много должно было воды утечь…
Ведь и Сережа Покрышкин, первый ее настоящий ухажер, первый мужчина, по сути дела, оказался случайным эпизодом в жизни. И все по той же причине: ей было страшно, одиноко, трудно и тревожно в Москве, не к кому прислониться плечом, а тут вдруг сразу поддержка, защита, сила, уверенность в себе. Дан хотелось как-то показать окружающим, девчонкам по комнате, что и она не лыком шита, ей все нипочем, все она знает, все умеет, во всем разбирается. А в результате…
Да ладно, Бог с этим со всем, чего теперь вспоминать!
Вера воткнула лопату в землю, отбросила со лба влажную прядь волос, повернулась лицом к солнцу и сладко прищурилась под его теплыми ласковыми лучами. Господи, сколько ни мотайся по свету, где только ни живи, а нет ничего лучше родного дома, вот этого свежего струистого воздуха, этого нежного тепла весеннего пригревающего солнышка, которое бывает таким только здесь, на родине, и только вот в эту пору, в майские благодатные дни. Казалось бы, жить да жить в родном гнездовье, так нет, все нас носит где-то по свету, все ищем счастье на стороне, вдали от родительских пепелищ. А находим ли счастье? Когда как… иногда находим, но чаще всего – нет, наоборот, теряем последнее, что имеем.
Может быть, думала Вера, это последняя моя свободная весна, последнее вольное лето, потому что осенью Бажену исполнится полтора года, придется возвращаться на работу, заниматься делом, которое вовсе не по душе, которое просто кормит тебя, дает средства для существования.
И так будет продолжаться всю жизнь? Может быть, может быть…
– Мамка, ты чего стоишь? Чего лин-тян-нича-ишь? – вывел ее из раздумий Важен, и Вера легко отмахнулась от мыслей, улыбнулась сынку:
– Ишь строгий какой, прямо инспектор! Ну, давай будем копать дальше, давай.
Наблюдая за ними с крыльца, наконец не выдержал и Верин отец Иван Фомич, подошел к ним с лопатой в руках:
– Устыдили мужика. Ладно, Бог в помощь!
– Становись рядом, отец. Втроем-то мы ого-го как быстро махнем!
– Ого-го! – поддержал их малыш и весело рассмеялся: забавно ему было повторять такое смешное «ого-го».
…К полудню вскопали две больших гряды, и хотя земля, действительно, была еще сыровата, можно бы и подождать с копкой, отец рассудил так:
– Ничего, солнышко погреет, ветерок посушит – в самый раз выйдет. Зато первые с картохой будем, так-то, ребята!
Шестого июня, в день рождения Поэта, приехал из Москвы Гурий, привез на лето старших сыновей Валентина и Ванюшку. Сам Гурий устроился жить в материнском доме, а Валек с Ваньком – в доме Ульяны, с бабушкой Натальей и дедом Емельяном. С тех пор, как Гурий ушел от Ульяны, он всегда сам привозил сыновей на Урал, но жили они не с ним, а с родителями Ульяны.
Так и получалось: Вера с Баженом – в одном доме (отец Веры не хотел признавать Гурия за дочериного мужа: не расписан – не муж); Гурий – в другом доме (со своей матерью Ольгой Петровной); Валентин с Ванюшкой – в третьем доме (у бабушки с дедушкой – с родителями Ульяны).
И все – соседи между собой; рядом друг с другом, но – не вместе. Вот какая штука.
Больше всех томился от этой несуразности Гурий. Во-первых, угнетало чувство вины, во-вторых, чувство неопределенности. Выходил утром из дома, садился на крыльцо – вон через забор, рядышком, строят самокат Ванек с Вальком. Бросал взгляд направо, через другой забор, – там грузит песок в детский самосвал Важен. Младший сынок работает самозабвенно, пыхтит, не замечает отца. А Валентин, тот сразу усмотрел Гурия, кричит:
– Папа, а как тут подшипник крепить, а?
Гурий, сонный, припухший, идет в одной майке к забору; идет огородом, по узким бороздкам между грядами; взошла уже картошка, полезли морковь, свекла, горох; огурцы расправляют листочки, редиска пошла в рост; пахнет свежестью, зеленью. У забора Гурий останавливается, говорит старшим сыновьям:
– Штырь надо потолще, понятно?
– А как крепить? – спрашивает Ванюшка.
Ну, разве объяснишь на словах? Гурий перемахивает через забор, подходит к ребятам. Через минуту забывает обо всем на свете, увлекается, как в детстве, вспоминает до мельчайших подробностей, как сами они, пацаны, в далекие послевоенные годы мастерили самокаты. Тогда не то что сейчас – тогда с подшипниками туго было, пойди достань! Да еще разных калибров… А сейчас? Сейчас подшипник найти – плевое дело, любого диаметра. Но вот смастерить самокат – тут, братцы, все равно смекалка нужна, и Гурий берется за ножовку, молоток, гвозди, начинает открывать сыновьям премудрые секреты самокатостроения. Причем что приметил давным-давно Гурий – что быстрей всех схватывает секреты – буквально на лету – Ванюшка; видать, мастеровой парень вырастет. Гурий и сам, надо сказать, в детстве сообразительным был, многое умел делать своими руками, за многое брался (и получалось, вот что главное), а с годами растерял навыки, разучился инструмент в руках держать; не то что починить что-нибудь в Москве, гвоздь толком не может в стенку вбить, вот до чего дело дошло. Или тут художество его виновато? захватило целиком? душу в плен взяло? Бог его знает.
Гурий вбил в ядро подшипника крепкий дубовый околышек, сквозь дерево пробил негнущийся стальной штырь в полмизинца толщиной, вставил подшипник со штырем в прорезь широкой доски, на которой будет стоять опорная, а не толчковая, нога, и гвоздями-скобами, предварительно остро обкусанными обыкновенными плоскогубцами, намертво закрепил штырь на доске.
– Вот так! – удовлетворенно хмыкнул он и даже, что редко с ним бывало, хвастливо прищелкнул языком: знай, мол, наших
– Спасибо, папа! – в один голос закричали ребята: подшипник, действительно, был накрепко приделан к доске.
Вдруг чувствует Гурий – кто-то трется около его правой ноги, пыхтит-сопит напряженно. Смотрит, а это младший его сынишка Важен, тоже рядом копошится. И главное – даже с самосвалом своим оказался тут.
– Ты еще откуда, пострел? – улыбнулся Гурий.
– Вон, видишь, дырка? – показывает Важен на забор. – Я там лазю. Я всегда! – и с гордецой это говорит, с самоупоением.
– Эх ты, клоп, – нажимает ему на нос Ванюшка, – все бы тебе в дырки лазить. А если б застрял?
– Не, не застрял. Я ух какой!
И все они, четыре родных мужичка, весело смеются.
– Я-то думаю: кто тут с утра веселится? А это вон кто. – Неожиданно к ним подходит мать Ульяны, бабушка Наталья Варнакова, первая теща Гурия. – Ну-ка, ребятня, пошли завтракать!

