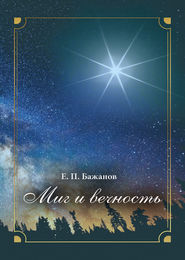скачать книгу бесплатно
Далее пошли по Бродвею. Шли на протяжении 5 часов – на каждом шагу магазины с фантастически низкими ценами. Натулька провела более часа в магазине одежды, где каждая вещь стоит 10 долларов. Накупила и всякой мелочи – батарейки, конфеты, посуду для кухни. Если знать места, то можно жить в Нью-Йорке на копейки.
Я постоянно снимал Натулю на видео. Наташенька на берегу Гудзона, на фоне Статуи Свободы, на улице Уолл-стрит, увешанной американскими флагами, на рынке, в обувном магазине, рядом с неграми-акробатами, в парке у цветущих деревьев, в церкви в полном одиночестве, в толпе зевак на уличном представлении кукольника, среди ребят и девиц, катающихся на роликовых коньках. А вот Натуля кормит белочку на детской площадке, возмущается обитателями чайнатауна, бросающими мусор под ноги, беседует с членами негритянского оркестра. Находит монетку в клумбе. И при этом как шикарно Наташенька выглядит в джинсовой куртке, как обворожительно улыбается, как искристо смеется. Прямо Богиня в Нью-Йорке! Солнечный человечек одновременно!
А вот мы гуляем с Валерой Грешных по Манхэттену. Натуля восхищается архитектурой зданий, рассматривает каждую церковь по пути. С любопытством изучает Times Square, завешанную оригинальной рекламой, забитую разношерстной публикой. И все время Наташенька улыбается! Действительно, солнечный человечек.
Я интересуюсь у Валеры, в какой гостинице размещали лидера российских коммунистов Г. Зюганова, когда он посещал Нью-Йорк. Валера: «В очень знаменитом отеле, Трамп-тауэр».
Мы дошли до 35-й улицы, полюбовались небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг, спустились в метро. Дома передохнули и отправились в гости к генконсулу И.А. Кузнецову. У него роскошный townhouse, 3 этажа, рядом с представительством (11 тыс. долл. в год, сейчас вроде снизили до 8 тыс.). Я прожег скатерть и два раза уронил хрустальные бокалы. Пил водку с пивом. Сегодня еле встал в 10 утра. Уже звонил Хуа Ди, приходил В. Грешных. Натулька почти собралась. Теперь надо решить, что делать. Самолет в 19:00, а на улице (как здесь и обещали) ливень. Может, погода успокоится и мы погуляем.
Закругляюсь. Итоги поездки буду подводить в самолете, ну и, конечно, в Москве. Пока они не выглядят великолепными. Напротив, опять почти zero. У меня очень много амбиций, и я никак не в состоянии их удовлетворить.
В самолете завершили объемную статью о спорте в США. За океаном он в почете, является важной частью американского бытия. Привожу текст этой статьи. Для удобства изложения материала она написана только от моего лица. Хотя готовили мы ее вдвоем с Натулей.
Функции спорта
В прошлом на мировой спортивной арене доминировали две сверхдержавы – СССР и США. После распада Советского Союза Соединенные Штаты сравнительно легко выигрывают все Олимпиады, успешно выступая в большинстве видов программы. Возможно, в перспективе американцев начнут «поджимать» быстро набирающие мощь китайцы, но на данном этапе США – лидер, самая спортивная нация на земле.
Так было не всегда. На первых порах европейским колонистам в Новом Свете на спорт не оставалось времени – приходилось всецело отдавать себя борьбе за выживание. Мешали и религиозные предрассудки: физкультурные забавы английских аристократов считались «грешными», а местные развлечения спортивного характера – «языческим идолопоклонством». Действовали строгие законы, запрещавшие занятия спортом в черте городов Новой Англии. Послабления делались лишь для народных ополченцев, которых обучали навыкам стрельбы, борьбы, бега и прыжков. Их, впрочем, готовили не к спортивным соревнованиям, а к боевым операциям против индейцев.
Время, однако, шло. Материальные условия улучшались, появлялось больше свободного времени, менялись взгляды, рос спрос на развлечения. К 1970-м годам физкультура и спорт занимали уже важнейшее место в жизни американского общества. Нет, пожалуй, вида спорта, который не практиковался бы в США. Большинство из них американцы импортировали из-за рубежа, но кое-что изобрели сами. Это прежде всего те виды спорта, которые именуют за океаном «Большая тройка» – американский футбол, бейсбол и баскетбол. Почти в любой другой стране мира на вопрос, какой спорт у вас наиболее популярен, ответят: футбол (имея в виду его европейскую версию). В Соединенных Штатах этот футбол, называемый там «соккер», далеко отстает по популярности от «Большой тройки». В самой тройке первенствует американский футбол (в дальнейшем для простоты я буду называть его просто футбол).
Придумали футбол студенты, которые во второй половине XVIII столетия начали играть в английское регби, но постепенно так переиначили правила, что возникла совершенно новая игра, стремительная, хитроумная, жесткая. Жесткая настолько, что все больше превращалась в жестокую. Методы насилия возобладали до такой степени, что в 1905 году в футбольных поединках 18 игроков было забито до смерти, а 159 – серьезно травмировано. Пришлось вносить очередные, и серьезные, коррективы в правила.
Тем не менее и по сей день футбол, а заодно хоккей на льду остаются самыми грубыми игровыми видами спорта. В 1970-х годах во время игры в футбол ежегодно погибало до 40 человек, причем в основном школьники. А до 90 % игроков получали как минимум одну травму. Даже тренировки отличались свирепостью, юношей истязали, словно готовили не к игре, а к бою. В американском футболе, кстати, даже терминология используется военная: «кинуть бомбу», «играть роль полевого генерала» и т. п.
Американцы оправдывают футбол тем, что это, мол, их способ выплескивания отрицательной энергии. У испанцев такую роль играет коррида, в Мексике – петушиные бои. Но в Испании гибнет только один тореадор в четыре года, а в Мексике петушиные бои вообще обходятся без человеческих жертв. Тем не менее апологеты футбола не сдаются. Травмы, говорят они, в том числе с фатальным исходом, случаются и в более рафинированных видах спорта, например в плавании, гимнастике, теннисе. И все же именно американский футбол держит печальную пальму первенства по травмам. Зрителей это, впрочем, не смущает, более того именно элемент насилия привлекает многих из них в этом национальном американском развлечении.
Любят его американцы страстно, не в меньшей степени, чем в нашей стране увлеклись в последние пятьдесят лет европейским собратом этого вида спорта. А может быть, и в большей. По крайней мере, на футбольных матчах в США, а их проводится великое множество, пустые места – явление довольно редкое, процентов же на восемьдесят многотысячные стадионы заполнены всегда.
Интерес к футболу всеобщий и почти в равной степени распространяется на оба пола, юнцов и старичков. Имена футбольных звезд известны американцу гораздо лучше, чем личности тех, кто ими правит, и любой горожанин обладает поистине компьютерными познаниями о турнирном положении местной команды. Почти каждый школьник мечтает стать футболистом, и только если ему это не удастся, уходит в другой вид спорта или довольствуется статусом болельщика.
Будучи игрой грубой, футбол считается одновременно умным видом спорта, требующим разнообразной тактики, сложных комбинаций. Но бейсбол котируется как еще более интеллектуальная игра. Как говорят в США, если футбол сродни шашкам, то бейсбол – шахматам.
Бейсбол приобрел популярность раньше футбола и оставался национальным спортом № 1 вплоть до конца 1940-х годов. Его пионерами тоже были студенты, которые переделали английскую игру раундерз (своего рода лапту) в нечто другое. Современные правила бейсбола были выработаны в середине XIX века спортивным функционером Картрайтом. Бейсбол постоянно критикуют за монотонность и вот уже несколько десятилетий объявляют умирающим, но слухи о его смерти всякий раз оказываются сильно преувеличенными.
В бейсбол продолжают играть, и даже самые отъявленные критики продолжают посещать бейсбольные состязания. Причем на бейсбол ходят семьями, прихватив с собой массу съестных запасов. Пока в самом деле скучный для непосвященного бейсбольный поединок постепенно раскручивается в соответствии со своим неторопливым сценарием, болельщики, усевшись прямо на траве, аппетитно закусывают и весело болтают. Лишь изредка их внимание привлечет далеко отбитый в поле мяч или завершение одной из соревнующихся сторон маневра, приносящего в бейсболе победные очки.
В отличие от американского футбола и бейсбола, баскетбол считается совсем чистым продуктом Нового Света. Известно, что его изобрел в декабре 1891 года Джеймс Нейсмит, уроженец Канады, преподававший физкультуру в учебном заведении Спрингфилда, что в штате Массачусетс. Нейсмит решил чем-то занять ребятню в период зимнего «простоя» между осенним футбольным сезоном и весенним бейсбольным. Он приделал к противоположным стенам в зале по корзине для персиков и предложил студентам бросать в них круглый «соккерный» мяч.
Утверждается, что в Соединенных Штатах родились и такие спортивные забавы, как сквош, серфинг, дельтапланеризм, водные лыжи. Но на самом деле уверенности в американском «патенте» на все это, включая и баскетбол, нет. Раз за разом выясняется, что те или иные виды спорта, которые, казалось, имеют четкую «метрику» о рождении в определенном государстве и даже в определенный год, на самом деле давным-давно практиковались совсем на иных широтах, другими народами.
Возьмем футбол («соккер»). Его родоначальники вроде бы англичане. Но так думают не все. Северокорейцы утверждают, что изобрели футбол именно они, и тысячелетия назад. В китайских источниках можно прочесть, что в некое подобие современного футбола играли с незапамятных времен и в Срединной империи. Археологи отмечают, что любили пинать ногами мяч в третьем тысячелетии до нашей эры шумеры, обитавшие между Тигром и Евфратом, на территории современного Ирака. Может быть, шумеры или иные древние народы развлекались и баскетболом в придачу со сквошем?
Все это, впрочем, из области предположений, а вот то, что в современной Америке занимаются с разной степенью самозабвенности практически всеми известными человечеству видами спорта, – является непреложным фактом. Причем «Большая тройка» лидирует отнюдь не по всем параметрам. Самым посещаемым спортивным зрелищем являются лошадиные скачки. В 1970-х годах их ежегодно наблюдало воочию до 70 млн зрителей (автогонки – 45 млн, университетский футбол – 30 млн). Привлекательность скачек кроется прежде всего в тотализаторе, но ведь и другие виды спорта практикуют его (хотя многие – нелегально, например, американский футбол).
Когда мы впервые попали в США, то нам сразу бросились в глаза бегающие по улицам люди. До СССР мода бега трусцой тогда еще не дошла, да и по сей день бегунов в России немного. В нашем огромном доме на Кутузовском проспекте, с тремя тысячами жильцов, на утреннюю пробежку выходят от силы 7–8 человек. В Америке уже тогда бег трусцой (jogging) охватил значительную часть населения.
В американских городах мало пешеходов – люди предпочитают ездить на машинах, объясняя эту привычку тем, что, во-первых, так передвигаться быстрее, а во-вторых, безопаснее. Когда мы шагали по жилым кварталам Сан-Франциско, то встречали главным образом бегунов.
Первым на дистанцию выходил гражданин по имени Келли Уайт. Он вставал в два ночи и тут же бежал к берегу залива, до которого было четыре километра. Достигнув берега, К. Уайт бросался в ледяную стихию и переплывал двухкилометровый залив. Не обтираясь, взбирался на гору и по мосту Золотые Ворота прибегал назад в Сан-Франциско. «Зарядка» продолжалась около пяти часов подряд и завершалась к семи утра, когда Уайт принимал душ, завтракал и отправлялся на службу.
Келли Уайт, конечно, уникален. Основная масса бегунов стартовала в 5:30 – 6 утра. Бегали семьями – от деда до внука, дружескими компаниями, с собаками (иногда с выводками собак). Одни десять минут, другие – час, третьи – пару часов. Раз в год устраивался городской забег, в котором участвовало до 70 тыс. человек (т. е. 10 % населения Сан-Франциско), в том числе восьмидесятилетние старики и малолетние дети.
Всего в США к концу 1970-х годов бегало 10 млн человек, причем 50 тыс. из них – на марафонскую дистанцию. Увлечение бегом трусцой достигло таких гигантских масштабов, что это явление стали называть социальной революцией, под стать «революции наркотиков» в 1960-х годах и «сексуальной революции» начала 1970-х годов. Особенность «революции бега» заключалась лишь в том, что она способствовала укреплению здоровья, а не наоборот.
Появилась масса литературы, посвященной бегу: научные монографии, популярные брошюры, пособия, дневники преуспевающих бегунов, каталоги и даже целые энциклопедии. Как-то мы насчитали в сан-францисском книжном магазине средней руки 22 издания на тему бега. Многие из них из месяца в месяц фигурировали в списках самых читаемых книг. Разбирали эту литературу, словно дефицитную колбасу в советских продмагах.
Родоначальником моды на бег трусцой стал доктор Кеннет Купер, разработавший в 1960-х годах теорию аэробики. Главный принцип аэробики – тренировка собственного тела на основе потребления больших количеств кислорода в течение определенного периода времени, по меньшей мере от 20 до 45 минут трижды в неделю. Самый оптимальный способ обеспечения нормального состояния сердечно-сосудистой системы, писал доктор Купер, а за ним другие авторы, – бег. 6 миль пробежки в неделю дают такой же эффект, как 30 миль езды на велосипеде, 15 миль ходьбы и 1,5 мили плавания. Получается, что на единицу времени человек получает больше всего пользы именно от бега. 6 миль можно пробежать за 60–70 минут, а для проплытия 1,5 мили потребуется 130–140 минут. Езда на велосипеде и ходьба требуют еще больших инвестиций времени.
В литературе обосновывалось, что бег поможет нации избавиться от «убийцы № 1» – сердечных болезней, а заодно от язв, головных болей, бессонницы, запоров, ревматизма, одышки, жировых образований. Утверждалось, что даже бег на месте в течение 5 минут в день может спасти жизнь. Указывалось и на то, что jogging способствует выделению гормона, который резко улучшает настроение человека, повышает его жизненный тонус. Тем, кто был физически не в состоянии бегать, рекомендовалось ходить и еще раз ходить.
Не все, однако, испытывали восторг от новой моды. Некоторые врачи доказывали, что бегать вредно, что от монотонного, повторяющегося отталкивания от земли сотрясаются и страдают внутренние органы.
Давали и более суровые оценки бега и спорта вообще. В книге «Поведение типа «А» и ваше сердце» доктора Фридман и Розенман заявляли, например, что ежегодно десятки тысяч американцев средних лет гибнут из-за сердечных приступов, спровоцированных увлечением физкультурой. К смерти приводят якобы игра в теннис, ручной мяч и баскетбол, катание на коньках, но самым опасным «убийцей» авторы книги назвали именно бег трусцой.
«Бег, – отмечалось в книге, – превращает людей в машину. Машина пыхтит, продвигаясь вперед с единственной целью пробежать чуть быстрее, чем вчера. И единственное удовольствие, которое получает бегун-машина, это чувство облегчения оттого, что очередной забег наконец закончен. Если кто-то захотел бы придумать специальное упражнение для уничтожения людей, склонных к сердечным приступам, то бег был бы идеальным средством достижения столь антигуманной цели».
Тем не менее американцы бегали все больше и больше. Первыми почувствовали пользу от нового увлечения владельцы магазинов спортивной одежды. Продажи спортивных костюмов, трусов, маек и кроссовок взлетели до небес. Но сейчас, пару десятилетий спустя, надо признать, что пользу получила и вся нация: количество заболеваний сердечно-сосудистой системы уменьшилось за этот период на 20 %! Бег трусцой, безусловно, внес вклад в данную тенденцию.
Существует, правда, статистика, свидетельствующая о том, что обычные люди в США живут дольше, чем спортсмены, особенно футболисты, бейсболисты, баскетболисты. Сторонники физкультуры и спорта разъясняют ситуацию следующим образом: дело не в нагрузках атлетов, а в их конституции (широкие плечи, массивная фигура). Люди с такой конституцией вообще живут меньше (даже если они никогда не дружили со спортом), чем их ровесники хрупкого телосложения (высокие и худые) или коротышки-толстячки. И в любом случае, добавляют энтузиасты, физкультура, может быть, и не продлевает жизнь, но делает ее гораздо более приятной и плодотворной.
В СССР тоже начали в 1970-е годы писать о пользе бега. Известный врач Амосов выпустил трактат под названием «Бегом от инфаркта». Народ в этой связи шутил: «бегом к инфаркту», и не очень слушал полезные советы. Не до бега было. Если американцам, разъезжавшим на личных машинах, грозила гиподинамия, то советским людям досаждали физические перегрузки. Они ездили в переполненном общественном транспорте, бегали по магазинам, часами простаивали в утомительных очередях, таскали полные сумки приобретенного по случаю дефицита. И мужчины, и особенно женщины. Так что упражнений хватало без бега трусцой.
Однако дело, видимо, не только в нагрузках, но и в традициях. Когда мы приехали на работу в Китай в 1982 году, то открыли для себя, что китайцы спозаранку занимаются физкультурой, несмотря на жизнь, изобилующую физическими нагрузками. Достаточно сказать, что китайцы ежедневно по несколько часов проводили в седле велосипеда, крутя педалями. И тяжести перемещали ничуть не меньше, чем советские граждане. Приходилось порой удивляться, как тщедушная старушка тащит на собственном горбу мешок с капустой или кучу ратанговых стульев.
Тем не менее еще до восхода солнца, в темноте мириады пекинцев высыпали в парки, аллеи, переулки и начинали разминаться. Одни медленно извивались, исполняя пируэты традиционной гимнастики тайцзицюань, другие выполняли дыхательные упражнения по системе цигун, третьи размахивали красочными мячами и веерами, кто-то, словно в балетной школе, растягивал в шпагате ноги. Причем среди физкультурников, в отличие от США, преобладали пожилые люди, включая самых настоящих стариков и старух.
В нынешние времена упражняющихся по утрам в Пекине и других китайских городах стало еще больше. Наряду с прежними формами разминки практикуются новые. Граждане, прежде всего зрелого возраста, собираются на площадях, включают музыку и приглашают друг друга на танец. Некоторые пляшут сами по себе. Появилось в КНР и немало любителей бега трусцой.
Если кто перещеголял американцев и китайцев в пристрастии к утреннему моциону, так это австралийцы. Создается впечатление, что в их столице, Канберре, бегают все и все время. В административном центре города, рядом со зданиями парламента, министерств и ведомств, пик беготни приходится на обеденное время. Политики и чиновники всех рангов используют перерыв не для успокоения и насыщения организма, а для его встряски и сжигания калорий. После прибытия на научную стажировку в местную Академию вооруженных сил мы дня два не могли встретиться не только с деканом, но и с его секретаршей. Оба то бегали, то играли в теннис, то отправлялись поплавать в бассейн.
Американцы тоже не только бегают. Вблизи нашего генконсульства имелся как минимум десяток общественных спортивных комплексов. Просторных, хорошо оборудованных, с аренами на открытом воздухе и под крышей. С самого раннего утра и до поздней ночи там резвилась публика всех возрастов – играла в теннис, футбол, бейсбол, баскетбол, волейбол. Мы, советские дипломаты, тоже регулярно посещали эти комплексы.
В одном из них, расположенном на территории штаб-квартиры 6-й сухопутной армии США, мерились силами на шикарном зеленом поле в «соккер». Поле предназначалось для бейсболистов, поэтому мы занимали половину пространства. Выставляли небольшие ворота, изготовленные консульскими умельцами, и гоняли мяч до изнеможения. Иногда он залетал на бейсбольную половину, а миниатюрный мячик бейсболистов – на нашу. Особых инцидентов, однако, не возникало.
Однажды на наш матч пожаловали сотрудники банка «Уэллс Фарго». Сказали, что родом они из Германии, любят «соккер» и хотели бы бросить вызов команде генконсульства. Договорились сыграть на настоящем футбольном поле стандартных размеров. Таких полей в Сан-Франциско насчитывалось около 50, немало, но оказалось, что энтузиастов «соккера» развелось в городе еще больше. Пришлось записываться в очередь и ждать около месяца. В конце концов игра состоялась, после нее устроили совместный банкет. Там порешили соревноваться и дальше. Вскоре у нас появились новые оппоненты, команда девушек-школьниц. Играли они здорово, особенно капитан команды Франческа, которая умудрялась за счет дриблинга проходить всю нашу крупногабаритную (стокилограммовые мужики) защиту.
Несмотря на изъяны в обороне, молва о команде генконсульства разнеслась так широко, что нас пригласили играть в другой город, в Менло-Парк. На «бой» вызвала местная любительская команда, состоящая из футбольных тренеров и судей. После игры еженедельник «Соккер Америка» опубликовал статью под заголовком: «Разрядка международной напряженности сохраняется, несмотря на поражение советской команды».
В статье, в частности, говорилось: «Представитель Организации американского юношеского футбола (AYSO) Джим Мэдисон договорился с советским консулом Евгением Бажановым о товарищеском матче… Мэдисон думал про себя: “Выберемся ли мы из этой ситуации так, чтобы не разрушить отношения с СССР? Ведь эти русские, наверное, начали играть в футбол еще в своих колыбелях! Что об этом матче подумает ФБР? А как отреагирует ФИФА, с которой мы не проконсультировались?”.
Но пути назад уже не было. Назначена дата. Выбран приличный стадион «Бюргесс парк» в городе Менло-Парк, что в черте зоны, за пределы которой советские дипломаты из-за каких-то странных махинаций госдепартамента не могут выезжать. Русские будут, конечно, в красной форме, команда AYSO – в белой.
День игры стремительно приближался, а американских игроков продолжали терзать страхи. ЦСКА недавно прошел через оборону сборной США словно нож сквозь масло. Киевское «Динамо» предстало во всем блеске своего мастерства, когда несколько лет назад противостояло команде «Окленд Клипперс». Может быть, игроки генконсульства старше и опытнее нас? Моложе и в лучшей физической кондиции? Более сыгранны, чем американская команда? Неужели уже к перерыву мы будем посрамлены? Не случится ли так, что неправильный штрафной из-за мнимой игры рукой разрушит переговоры по разоружению между Москвой и Вашингтоном? Кто знает, возможно, русские задавались перед игрой подобными вопросами?
Но вот настал великий день… Мяч введен в игру. Она получилась живой, равной и очень дружественной. После игры пиво, водка… Наверное, футбол в самом деле иногда способствует международному взаимопониманию.
Ах, да, какой счет, спросите вы? 4:3 в пользу AYSO.
И пока даже не появились люди из ФБР»[5 - Soccer-America. 1974. April 16. Р. 5.].
Чем дольше находились мы в Калифорнии, тем больше удивлялись, какое количество народа играет в европейский футбол! И это число росло из года в год. Многим импонировало, что эта игра не требует больших затрат на экипировку. И все же поклонников «соккера» оставалось на несколько порядков меньше, чем тех, кто развлекался американским футболом, бейсболом, баскетболом. От обывателя в те годы можно еще было услышать бурчание относительно того, что игра в европейский футбол отдает «снобизмом», «низкопоклонством» перед заграницей.
На спортивных общественных комплексах Сан-Франциско вовсю играли в баскетбол. Я и еще один сотрудник генконсульства частенько присоединялись к местным любителям. Молодые люди произвольно делились на команды и соревновались до достижения определенного счета. Проигравшие выбывали, их сменяла другая команда, которую подбирал человек, предварительно занявший очередь. Он мог пригласить и кого-то из только что проигравших матч.
Наш уровень мастерства не уступал среднему, но если в рядах соперников играли негры, то мы тушевались. Удивительное дело, но буквально каждый из них демонстрировал виртуозную технику и головокружительную прыгучесть.
Сражались мы и в теннис – занимали очередь на общественных кортах и разыгрывали между собой партию, после чего уступали место следующей паре. Впрочем, кортов в округе было столько, что зачастую не возникало никаких очередей: входи на пустующий корт и играй. При этом поражало то, что муниципальные власти поддерживали и корты, да и общественные спортивные комплексы в целом, в самом образцовом порядке: спозаранку, еще до восхода солнца, их чистили и скоблили служащие. Подметали, стригли траву, поливали газоны, восстанавливали разметку, натягивали сетки.
Кипела спортивная жизнь и на океанском берегу: сотни молодых людей облачались в резиновые трико и мчались на досках по бурному пенистому прибою. Рядом с высоких скал слетали люди с крыльями – дельтапланеристы.
Другие устремлялись в настоящие горы, Сьерра-Невада, где функционировали многочисленные горнолыжные базы. Однажды знакомые отвезли нас на одну из самых знаменитых баз, Скво-Вэлли. В 1960 году там прошла зимняя Олимпиада, за которой я, еще будучи подростком, с замиранием сердца следил с помощью радио и газет. С тех пор название «Скво-Вэлли» воспринималось мной как нечто легендарное, связанное с великими событиями прошлого.
В дорогу запаслись цепями для колес, так как ожидались снегопад и гололед. Но цепи не понадобились. Действительно, шел сильный снег, но соответствующие службы мгновенно очищали шоссе и растапливали лед. Ехали в высоких горах, но никаких неудобств не испытывали, машина плавно неслась на высоких скоростях, словно по треку. За все годы пребывания в США, кстати, мы так ни разу не прибегли к цепям, хотя не раз пересекали в студеную зиму Сьерра-Неваду и другие высокогорные районы.
Скво-Вэлли предстал симпатичным населенным пунктом в долине, окруженной величественными снежными вершинами. Самая высокая из них называлась «Сибирь». Поразили размах горного курорта (отели, частные виллы, рестораны, развлекательные центры) и большое количество туристов. Горнолыжная экипировка стоила приличных денег, и тем не менее Скво-Вэлли наряду с другими базами заполнялся в зимний сезон до отказа. По улицам двигался сплошной поток людей всех возрастов в разноцветных костюмах с лыжами за плечом. У подъемников выстраивались длиннющие очереди.
Наши друзья катались всю субботу напролет, а мы с Наташей лишь наблюдали за происходящим. Я не то что на горных, на равнинных лыжах не очень умел кататься. В Сочи, где прошло детство, снег выпадал пару раз за зиму и тут же таял. Воспринимался он как большая диковинка, вызывал всеобщий восторг. В момент снегопада в школах даже отменяли занятия, чтобы дать детям позабавиться. Школьники высыпали на улицу, лепили из мокрого снега снежки и швыряли в прохожих. Никто не обижался, горожане от мала до велика впадали в состояние эйфории от такого чуда природы. Позднее, уже будучи студентом в Москве, я порой пытался себе представить, что было бы, если бы москвичи начали пулять друг в друга снежками где-нибудь на улице Горького или у входа в ГУМ.
В Москве я впервые наяву увидел лыжи и вскоре вынужден был прикреплять их к своим ботинкам. Нас, студентов, повезли в парк Сокольники сдавать зачет по лыжному кроссу. Преподаватель физкультуры велел сделать круг по лесу и вернуться к исходному рубежу. Вместе с общей группой я ушел со старта, но вскоре упал. Пока поднимался, стряхивал с себя снег, товарищи по лыжне скрылись из вида за деревьями.
Возобновил бег, но упал опять. Понял, что до финиша не дотяну, и решил пересечь лес по диагонали, чтобы сразу оказаться на финишной прямой. Снял лыжи, взял их под мышку и моментально провалился в глубокий снег. Не знал, что по заснеженному лесу без лыж не пройдешь. Но выхода не было, пришлось продираться по пояс в снегу к заветной прямой.
Спустя какое-то время я потерял ориентир и уже не знал, в каком направлении продолжать движение. Но тут заметил лыжню, по которой ко мне приближались две девушки. Шли они классно, быстро и красиво. Поравнявшись, остановились. Это были однокурсницы. Помогли надеть лыжи и проводили до финиша, где нас уже минут двадцать ждали преподаватель и все остальные студенты. Одну из спасительниц звали Наташа. Она-то впоследствии и стала моей женой. Но лыж я с тех пор чурался. Наташа становилась на них лишь изредка. С гор же она никогда не спускалась.
Для занятий спортом калифорнийцам необязательно было ездить в горы или добираться до океанского берега. В большинстве домов, и личных, и многоквартирных, имелись бассейны. Некоторые граждане проводили в них дни напролет. Плавали и ныряли, а затем загорали, читали, писали рядом с водоемом. Советским людям все это было в диковинку, ибо в Москве, например, в те времена функционировали лишь два городских бассейна. О личных никто и не мечтал (за исключением, быть может, высшего начальства).
Еще одной диковинкой воспринимались нами фитнес-центры. По неопытности и наивности мы вляпались с одним из них в неприятную историю. Получаем по почте приглашение посетить фитнес-центр в качестве почетных гостей. Что скрывается за этим названием, не имеем ни малейшего представления. Вначале думали, что речь идет о закрытом клубе, где выпивают и эпикурействуют. Приготовили вечернюю выходную одежду и только буквально в последний момент узнали, что такое фитнес-центр на самом деле. Решили позвать с собой коллег из генконсульства, любящих спорт. На призыв откликнулись представители технического состава, с которыми я играл по выходным в футбол.
Наша шумная компания в количестве десяти человек ввалилась в фитнес-центр. Охранник у входа лишь разинул рот от удивления. Опомнившись, поинтересовался: «Вы члены фитнес-центра?». Спутники английского не знали, поэтому я ответил за всех, что мы – по приглашению. В этот момент навстречу вышел улыбающийся менеджер и, узнав, откуда мы, великодушно провел советских гостей по спортзалу, порекомендовал попариться в сауне.
Вначале мы упражнялись на замысловатых снарядах, которых никогда прежде не видели: дорожки для бега на месте, наклонные плоскости с эспандерами, центрифуги. Подустав, перешли в сауну, где ребята распили принесенную с собой водку и начали горланить песни.
Сотрудники центра нервничали, но шум терпели. Одновременно один из тренеров начал уговаривать меня вступить в члены фитнес-центра. Снял метрические данные: рост, вес, объем талии и пр. Объяснил, как следует тренироваться, чтобы улучшить фигуру, сбросить лишний вес, повысить функциональные показатели.
Через несколько дней получаю из центра счет на 350 долларов. В счете указано, что я должен оплатить членские взносы за год. Решил, что произошло недоразумение, счет проигнорировал. Но вскоре раздается телефонный звонок. Представитель фитнес-центра интересуется, когда долг будет погашен. Отвечаю, что не собираюсь вступать в члены. Голос по телефону возражает: «Вы уже вступили в наши ряды. Осталось только выполнить финансовые обязательства».
Целые полгода менеджмент фитнес-центра атаковал меня требованиями «погасить задолженность». Поскольку я не поддавался, зазвучала угроза подать в суд. Парировал аргументами о своем дипломатическом иммунитете. В конечном счете меня оставили в покое. Но с тех пор я обходил все фитнес-центры стороной и немедленно выбрасывал в мусорник любое приглашение посетить бесплатно, в качестве «почетного гостя», какое-то коммерческое заведение или мероприятие. Привычка выручает и в сегодняшней Москве, где подобные «халявные» зазывания тоже стали нормой.
Сравнивая нынешнюю ситуацию в России и США, надо отметить, что за океаном фитнес-центры давно уже стали доступными самым широким слоям населения, а у нас ими пользуется лишь узкая прослойка богатых. Гораздо большее число людей вовлечено в Америке в игру в гольф и сквош, горный туризм.
Уже в 1970-е годы очень многие американцы начали считать калории: сколько потребляется и сколько расходуется. Мы, кстати, именно в Сан-Франциско впервые в жизни узнали о важности такого подсчета и сами занялись им. Я начал бегать по утрам, ограничивать себя в еде. Нельзя сказать, что мы превратились в фанатов этого дела, аскетов. Но определенную культуру регулярного занятия спортом и питания приобрели под влиянием американской среды. Такая культура позволяет гражданам США меньше болеть и дольше жить, чем россиянам.
Хотя и в Америке до идеала далеко. Достаточно вспомнить, что бывший президент Билл Клинтон, несмотря на сравнительную молодость (57 лет) и многолетнюю привычку бегать по утрам, перенес в 2004 году серьезную операцию на сердце. Врачи объясняют болезнь Клинтона тем, что он любит жирную пищу и никогда в ней себе не отказывал.
В последние годы в США бросается в глаза большое число безобразно толстых людей. В чем дело? Увлечение дешевой, «пластиковой» пищей «Макдоналдсов»? Засоренность многих продовольственных изделий некачественными пищевыми добавками? Однозначного объяснения нового феномена не дается. Некоторые специалисты считают, что ожирение детей – следствие использования матерями противозачаточных средств.
В прошлом американцы, да и многие другие иностранцы, от французов до китайцев, подхихикивали над полнотой наших женщин. Сейчас россияне смеются над пузачами-американцами. Правда, статистика свидетельствует, что и в США, и в России 2/3 населения страдает от избыточного веса.
Статистика показывает также, что, несмотря на наблюдавшееся нами в Калифорнии обилие спортплощадок и упражняющихся, большинство американцев все же, вступив в зрелую пору жизни, не жалует физкультуру вниманием. И некоторые при этом живут долго. Мы не раз слышали от знакомых из-за океана насмешливые ремарки типа: «всякий раз, когда мне хочется размяться, я ложусь на кровать и валяюсь на ней, пока безумное желание не улетучится»; «единственное упражнение, которое я делаю, – тянусь за второй порцией мартини»; «я упражняюсь лишь в тех случаях, когда на похоронах несу гроб очередного приятеля, активно занимавшегося спортом».
Почему же американцы по достижении зрелого возраста забрасывают спорт и физкультуру? Объясняется этот феномен рядом причин.
Первая – психологическая. Гражданин США с детства приучен к мысли, что достойные, «королевские» виды спорта – это футбол, бейсбол, баскетбол и хоккей. Но после тридцати лет ими по-настоящему не позанимаешься, вот люди и забрасывают физические упражнения.
Вторая причина заключается в том, что спортивные программы в учебных заведениях ориентированы на организацию зрелищных мероприятий, а не на физвоспитание подрастающего поколения. Большинство учащихся не участвует в постановке этих зрелищ (футбольных матчей и т. д.) и, как следствие, не вырабатывает вкуса и привычки заниматься физкультурой.
Те же ребята, которые достигли в университетские годы спортивных вершин, отходят от спорта, как только начинают ощущать снижение собственных кондиций. Им неприятно проигрывать.
Как это ни покажется странным, но жалуются в США и на то, что местные власти не желают тратить деньги на спортивные сооружения для населения. Средства, мол, «вбухиваются» в супердорогие стадионы для профессиональных команд, а о теннисных кортах, баскетбольных площадках никто и не вспоминает. К тому же, детям не прививают осознание важности физических упражнений, привычку к ним. В итоге, дескать, в Англии, Германии, Голландии и во многих других странах взрослое население ведет гораздо более активный образ жизни, чем в США. Американцы якобы находятся где-то в середине мирового рейтинга по этому показателю.
В сравнении с СССР и сегодняшней Россией, однако, ситуация с общественными спортивными комплексами и с числом занимающихся физкультурой выглядела и выглядит в США весьма неплохо. Более того, как я уже пытался сказать выше, эта ситуация нас, советских дипломатов, глубоко впечатляла в 1970-е годы.
Попав в США, я заинтересовался детско-юношеским спортом. Сам с ранних лет увлекался различными видами, и хотелось сравнить реальное положение дел в этой области в двух странах. Оказалось, что в чем-то оно совпадало, а в чем-то существенно расходилось. Но главное – и здесь, и там спорт принимал в свои объятия все-таки немалое число подростков.
В Сочи спорт подразделялся на «дикий» (самодеятельный, дворовой) и организованный (в общеобразовательной школе, а также в секциях детской спортивной школы – ДСШ и спортивных обществ). Для меня все началось с «дикого» футбола. Мальчишки из нашего трехэтажного дома и соседних хибар собирались в Лесном переулке и часами гоняли мяч. Вскоре появился соперник – сверстники с расположенной неподалеку Малой Приреченской улицы. Игры проводились поочередно в нашем переулке и на их улице. Оба «поля» представляли собой немощеную, всю в пыли и камнях, проезжую часть. Ворота обозначались двумя булыжниками. Мяч использовали резиновый, с пупырышками. На кожаный не хватало средств, да к тому же он быстрее стирался бы на упомянутом выше «газоне».
К играм с малоприреченцами мы относились как к принципиальным, серьезным сражениям. Накануне я, бывало, не мог заснуть, так волновался. Соперники рисовались в сознании как грозные «псы-рыцари», с которыми дружины Александра Невского сошлись в смертном бою на льду Чудского озера. Я даже не знал имен игроков чужой команды, и их лица казались мне одинаковыми.
Бились мы до полного изнеможения, возвращаясь домой в ссадинах, синяках, кровоподтеках. Когда выигрывали, почти безумели от счастья, поражения же приводили нас в глубокую депрессию, растягивавшуюся порой до следующего матча. Я по собственной инициативе вел таблицу, фиксируя не только даты и счета игр, но и состав нашей команды, авторов голов. Ребята за это дразнили меня «чернильной душой», но в таблицу порой заглядывали.
Со временем пыльные «поля» перестали всех устраивать. По ним, помимо всего прочего, иногда проносились машины, а по воскресеньям в Лесном переулке устраивалась барахолка. Мы перенесли игры на так называемый аэродром.
По другую сторону реки Сочи располагалось огромное поле. В прошлом оно использовалось для взлетов и посадок небольших самолетов, прозванных в народе «кукурузниками». В наше время самолеты появлялись там редко, и зимой поле переходило в распоряжение ведущих футбольных команд страны, проводивших предсезонный сбор на юге. Одновременно на «аэродроме» могло тренироваться сразу с десяток команд.
После отъезда мастеров «аэродром» начинал зарастать сорняками, но оставались прогалины, там мы и стали гонять мяч. Однако наслаждаться почти настоящим футбольным газоном довелось недолго. На «аэродроме» появлялись шайки подростков, которые жгли костры, пили и играли в карты. Какое-то время они на нас не обращали внимания, но однажды предложили сыграть в футбол. Мы с малоприреченцами выставили объединенную команду, которая легко переиграла соперников. Те немедленно полезли в драку, им на подмогу бросились члены других шаек. У некоторых в руках были палки, блеснули на солнце и лезвия ножей.
Больше на «аэродром» мы не ходили, тем более что вскоре в этом отпала надобность. Почти все игроки нашей команды записались в футбольную секцию ДСШ. Занятия проводились на единственном стадионе города, который был расположен в десяти минутах ходьбы от нашего дома и рядом с главным пляжем – Ривьерским.
Тренировал юных футболистов Петр Исаевич Гаврилов (будучи греком, позднее он сменил фамилию на Гаврилиади). Это был настоящий энтузиаст своего дела, жесткий, крикливый, но любивший мальчишек и футбол до беспамятства. Он пользовался непререкаемым авторитетом у подопечных и воспринимался как величайший знаток футбола. Я и сейчас вспоминаю его как тренера с большой буквы, и порой мне кажется, что, возьми Петр Исаевич футбольную сборную России в свои руки, она заиграла бы.
Петр Исаевич опытным взглядом сразу разбил новобранцев на два состава, первый – лучший, второй – похуже. Организовал двустороннюю игру, а затем стал дотошно вдалбливать в мальчишеские головы азы футбола. Учил останавливать мяч, пасовать, обводить, бить, открываться. Вскоре двум детским составам разрешили сыграть между собой укороченный (15 мин) показательный тайм перед встречей взрослых команд. Стадион был забит до отказа. Из кабинета директора, расположенного на верхнем этаже башни, за событиями на поле наблюдали и мои родители.
Я играл левого полусреднего, и лишь раз до меня дошел мяч. Ткнул его перед собой и помчался по левому флангу. Мчался недолго, мяч защитники отобрали. Отец дома подшучивал над моей невыразительной игрой. Я был очень расстроен, но на следующее утро прочел в местной газете хвалебное описание нашего поединка. «Зрители увидели на поле, – писала газета, – будущих мастеров отечественного футбола».
Я пришел в восторг. Оказывается, мы все-таки здорово играем в футбол и у нас блестящее спортивное будущее! И, действительно, кое-кто из моих ровесников впоследствии сделал неплохую карьеру. Сосед по дому и приятель Володя Морданёв, например. Он с самого начала выделялся в дворовой команде, играл технично, красиво, с этаким стрельцовским чувством превосходства. Из юношеского футбола Володю пригласили в команду мастеров. Просматривали его даже в московском «Спартаке» и наверняка оставили бы в команде, если бы не пристрастие парня к спиртному.
Другой сверстник, Джемал Силагадзе, закрепился-таки в столичном «Спартаке» и несколько лет выходил на поле за основной состав. В детстве его мастерство представлялось мне, да и не только мне, просто божественным. Отнять у Джемала мяч было невозможно, бил он точно и мягко, словно бросал рукой, в скорости ему тоже не находилось равных.
В моем сознании Джемал с сочинских времен оставался кудесником под стать лучшим бразильским игрокам, чьи имена гремели в конце 1950-х – начале 1960-х годов на весь мир: Диди, Вава, Гарринча, Пеле. Но когда я увидел Силагадзе по телевизору в рядах «Спартака», понял, что детские восторги были все-таки преувеличенными. Смотрелся он на фоне лучших мастеров СССР середнячком.
Что касается меня, то я из футбольной секции ДСШ ушел. Надоело сидеть в запасе, да и появились другие увлечения. Но в школе продолжал гонять мяч. Играли мы на баскетбольной площадке перед школой. Опоры баскетбольных щитов служили воротами. Бегали прямо в обычной одежде, пачкая ее до безобразия. Но это еще полбеды. Хуже было то, что рядом с баскетбольной площадкой шла асфальтированная дорожка в здание школы. Как только там появлялась очередная учительница, мяч по какой-то необъяснимой причине летел (словно управляемая ракета) в ее сторону и обязательно находил голову дамы. Особенно доставалось молоденькой учительнице литературы. Как минимум 5–6 попаданий в нее до сих пор стоят у меня перед глазами, причем дважды эти «мастерские» удары наносил лично я.
Разгневанное школьное начальство немедленно накладывало запрет на футбольные баталии. Тогда мы перемещались в холл на втором этаже школы, куда выходили классные комнаты. Играли теннисным мячиком, он тоже резво летал и поражал самые неподходящие цели: окна, люстру, нижнюю часть спины завуча. После очередных репрессалий перешли с теннисного мяча на яблоки, огрызки от яблок, спичечные коробки.
Кроме такого своеобразного мини-футбола практиковали и совсем уж экстремальные виды «спорта». Первым был так называемый жучок. Один из школьников становился к остальным спиной, заводил за спину руки и раскрывал прижатые друг к другу ладони. Кто-нибудь из игравших бил по ладоням и все, подняв вверх большой палец правой руки, начинали жужжать. Получивший по ладоням должен был догадаться, кто его обидчик. Если отгадывал, то уступал опознанному свое место на «эшафоте».
На первых порах, как и положено, удары по ладоням ладонями и наносились. Но постепенно стали бить ногами, портфелями и всем чем попало, при этом устраивая между собой потасовку за право нанести удар. Таким образом, «жучок» выродился в очень вольную борьбу с участием одновременно 12–15 юношей. Доигрались мы до того, что раскрошили угол стены в классной комнате. Но не испугались содеянного, а, наоборот, принялись разламывать стену дальше.