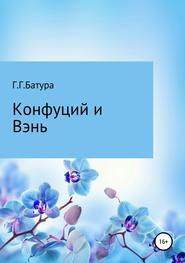 Полная версия
Полная версияКонфуций и Вэнь
Сегодня в России поэзия умерла, а те, кто восторгается «стихами Пушкина», напоминают поздних китайцев, которые с пиететом произносят имя Вэнь-вана. Что китайцы знают об этом человеке? Ровно столько, сколько сегодняшняя Россия «знает» о своем Пушкине. Поэзия точно так же исчезла в русских сердцах – а следовательно и в обиходе русского человека, – как опыт Вэнь-вана исчез из сердец китайцев. Потому что истинных любителей этого была «крошечная горстка». И когда «гегемоном» вдруг стал весь народ, – это абсолютно исчезло из жизни того же самого государства. Можно конечно, взять старую книгу и почитать «Выхожу один я на дорогу» или древний Гимн Ши цзина о Вэнь-ване, мерно покачиваясь в «марсианском кресле» из известного рассказа Рэя Бредбери. Но при этом видеть только «золотые буковки». Это – даже в «обычной» поэзии! – просто так, «с кондочка», не вместить и не полюбить: для этого надо предварительно пройти огромный внутренний путь: надо получить воспитание «древнего аристократа».
К Лунь юю первоначально относились как к некоему философскому тексту-загадке: его воспринимали так же, как сегодня воспринимают интересный «ребус», ориентированный на достаточно высокоинтеллектуального читателя, или как на запутанный детектив Агаты Кристи. «Что такое Жэнь?» – это и есть истинное название «философского детектива». И по всем этим причинам текст трудно было приспособить в качестве подходящего материала для успешного управления государством. Он стал пригоден для этого только после того, как его «подробно и тщательно» «растолковал» Чжу Си. Только после его комментария Лунь юй утратил былую репутацию «ребуса» или «бытового» текста.
Спрос на такие тексты (включая Мэн-цзы и Лунь юй с комментариями Чжу Си) возник гораздо позднее, когда в обществе появился реальный запрос на «чжоускую» социальную справедливость. Но даже после вхождения Лунь юя в Канон «Четверокнижия», в этом конфуцианском собрании гораздо большее значение имел текст Да сюэ. В книге «Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики» («Наука». Главная редакция Восточной литературы, М.:1982, стр. 150) А. И. Кобзев пишет следующее:
Главное внимание философа (Ван Янмина) в этом трактате (Да сюэ вэнь, «Вопросы к “Великому учению”»), естественно, сосредоточено на Да сюэ («Великом учении»). Вообще, будучи положенным конфуцианцами в фундамент здания идеологической классики, этот текст оказался в центре идеологических дискуссий, доходивших до прямой его переделки. Впервые самостоятельность «Великого учения» была подчеркнута Сыма Гуаном (1019–1086), написавшим к нему специальный комментарий. В дальнейшем это произведение привлекло внимание братьев Чэн Хо и Чен И, которые после определенных текстологических процедур утвердили его в качестве самостоятельного трактата, первого в «Сы шу» («Четверокнижие»). Завершил этот процесс канонизации Чжу Си.
Итак, – сначала Чунь цю, а затем – Да сюэ. О значении текста Лунь юй в китайском каноноведении восторженных слов не встретишь. То есть текст Лунь юй не сразу после своего появления обрел известность, а набирал силу в течение продолжительного исторического времени – многих сотен лет. И чем больше становилась его популярность в философской среде (но и среди государственных деятелей и даже среди грамотного народа), тем активнее и очевиднее проводились «правки» в исторических документах Китая с той целью, чтобы подтвердить глубокую древность Лунь юя.
Любой объективный исследователь древнекитайской литературы обязан признать тот очевидный факт, что для Китая подобный подход к древним текстам являлся рутинной практикой: государственный Китай никогда не относился к своим «манускриптам», как к авторским текстам. Возможно, это произошло по той причине, что подлинная письменность Китая (в виде появления отдельных законченных текстов) возникла практически одновременно с тем социальным явлением, когда время создания этих текстов стало искусственно удревняться, – что, в свою очередь, было связано с необходимостью внесения корректив в эти тексты. Государство изначально заявило свои единоличные права на любой «древний» текст, т. к. имело в этом жизненно важный интерес, – речь шла о той «прочности престола», которая ставилась выше всякой «научной достоверности». Невольной причиной или «провокатором» такого отношения государства явился легендарный Вэнь-ван с его бессмертным «Небесным мандатом» (Тянь мин). Из-за поголовной неграмотности большинства населения Китая, такие исправления можно было вносить, не заботясь о том, что это кто-то заметит. И в этом – принципиальное различие между текстами китайскими и текстами европейской цивилизации, где изначально существовало гораздо больше гражданских свобод, и где степень грамотности населения была несравненно выше.
Бережный европейский подход к старым текстам – это уже реалии почти современного Китая, обученного европейцами. Более того, поручиться за то, что текст Лунь юй избежал значительных исправлений (при этом справедливо рассматривать вероятность включения в первоначальный текст дополнительных «суждений», приписываемых Конфуцию), мы можем только на основании его относительной молодости в философской жизни Китая. Но в гораздо большей степени это было связано с тем, что в нем не просматривалось ничего откровенно идеологического. И, наконец, этот текст в смысловом отношении оказался «твердым орешком» для любого интеллектуала Китая, – поэтому к нему опасались прикасаться без особых причин, довольствуясь классическими комментариями Чжу Си.
Как можно оценивать действия Кун Аньго, если рассматривать его «подлог» с Лунь юем с нашей сегодняшней точки зрения? Можно ли его осуждать за подобную «ложь»? Но в таком случае следует осудить и евангельского Христа за то, что Он «ввел в искушение» простосердечного Иуду, приманив его совсем не тем «Царством», которое Иуда имел в виду и ради которого Иуда влился в состав учеников Христа. В таком случае следует осудить и гениального еврея «Матфея», который в своем литературном произведении под названием «Евангелие от Матфея» соединил воедино две совершенно разные исторические личности: мандея Иешуа, проповедующего о духовном пути человека к Царству Света, и иудейского пророка Машиаха (Мессию), жаждущего реализовать еврейское малькут шамаим и распятого на кресте римскими воинами. Тот исторический мандей Иешуа, который показан в более древнем Евангелии от Фомы, распят никогда не был, и Он в этом тексте ни разу не назван Христом (Мессией).
Главная правда обоих этих текстов – и Лунь юя, и Евангелия – заключается в «послании человечеству», которое оба эти текста содержат. Исследовать эти тексты на их «историческую достоверность» – это удел сяо жэнь. Оба эти важнейших текста человечества – это продукт «художественного вымысла», который имеет в своей основе базовые духовные ценности человеческого бытия. К выдающимся текстам подобного рода следует отнести и Евангелие от Иоанна.
Но и это еще не все в сложной исторической жизни Лунь юя. Бесспорно то, что некогда в Поднебесной действительно жил какой-то Кун Аньго, который прошел весь духовный путь от получения Дэ и опыта Вэнь – и до «открывшегося Неба» и вэй и. Более того, благодаря своей образованности этот человек сумел отождествить свой опыт с опытом древнего Вэнь-вана. Он прекрасно понимал, что если этот опыт будет обнародован – так, как он есть на самом деле, – его просто запрут в «сумасшедший дом». Но одновременно с этим такие люди прекрасно знают, что все то, что произошло с ними, когда-то станет подлинной жизнью и для многих других. И разве можно было допустить такое, чтобы опыт этого Кун Аньго бесследно исчез – безо всякого назидания для ищущих Правду людей?
И Кунь Аньго сделал единственно возможное и единственно правильное в его положении (да и не мог он поступить иначе, как не может то тесто, в которое вложены дрожжи, запретить себе «всходить»): он написал свое «послание в вечность» в виде известного нам текста Лунь юй. Он создал его сам, собственноручно, – написал тем «новым стилем», которым прекрасно владел, и который уже давно утвердился в Китае в качестве общепринятого письма. А затем сделал «перевод» этого текста на старый стиль (гу вэнь) и закопал бамбуковую книгу в стене своего дома (а не мифического Конфуция). И именно там этот текст вскоре был обнаружен – как свидетельствуют хроники – самим Императором. Потому что если бы его вдруг нашел Кун Аньго, это выглядело бы подозрительно. Затем Император передал этот «древний» текст «потомку Конфуция» для изучения. Какой-то странный мистический «заговор четырех»: Кун-Аньго, Сыма Цяня, Дун Чжуншу и самого Императора!
Но и это еще не все в сложной исторической судьбе Лунь юя! Всякий разумный исследователь подобных текстов должен был, конечно, догадаться и о том, что и с самим процессом «творчества» Кун Аньго дело тоже обстоит не так просто. И в этом – прямая аналогия со способом создания синоптических Евангелий. Принцип создания «художественного» евангельского текста заключался в наложении своего героя (еврейского Машиаха) на уже существующий в истории образ духовного проповедника (мандея Иешуа). И любому здраво мыслящему человеку должно быть понятно, что не мог Кун Аньго просто так, «из ничего», создать своего действительно бессмертного «Конфуция». Текст мог быть воспринят современниками как подлинный только в том случае, если в его основе лежал (или его «фоном» служил) образ какого-то действительно известного исторического персонажа, – древнего почитателя и проповедника чжоуского ритуала Ли.
Интуиция Кун Аньго подсказала ему единственно правильное решение. В Китае действительно некогда жил древний мудрец, который, как и главный герой Лунь юя, был страстным проповедником Пути Чжоу. Более того, скорее всего, он-то и носил имя Чжун-ни – «второй с холма» (или, если ближе к тексту, «средний с глинозема»), которое впоследствии стало «прозвищем» литературного Конфуция. Именно это имя несет в себе тот «натурализм», который характерен для очень древних китайских имен. От жизни этого подвижника действительно сохранились какие-то яркие высказывания, со временем превратившиеся почти в пословицы или поговорки. О них мы скажем отдельно, т. к. если следовать нашей логике, то они обязательно должны были попасть в «восстановленный» текст Лунь юй.
Но сначала мы покажем читателю, как воспринимался в Китае в I в. до н. э. образ действительно «древнего Чжун-ни» (Древнекитайская философия. Эпоха Хань, стр. 15):
В апокрифических дополнениях к классическим текстам – вэй (букв., «ткань» – Г. Б.), которые представляли комментарии к ним и авторство которых в конечном счете приписывалось самому Конфуцию, последний был превращен в существо, наделенное даром провидения. Утверждалось, что отец Конфуция был сверхъестественным существом (черным драконом) и Небо отметило его как законодателя Китая. Сам Конфуций, чудесным образом рожденный в дупле шелковицы, имел на квадратной груди магическую надпись (вспомним о бытовавших в то время представлениях о значении иероглифа Вэнь – Г. Б.), предвещающую победу его учения. Следовательно, он был не только мудрецом, но и божественным существом. Небо предписало ему быть правителем на все времена в Поднебесной. Его священная миссия заключалась в том, чтобы по велению свыше создать канонические книги – «И цзин», «Шу цзин», «Ши цзин», «Ли цзи», «Сяо цзин», «Юэ цзин» (утраченная «Книга о музыке» – Г. Б.), «Чунь цю» – и, что явственно проглядывалось в апокрифической литературе, подготовить передачу «небесного мандата» потомкам красного дракона из дома Лю, т. е. династии Хань.
Для любого исследователя не может быть сомнений в том, что речь в данном случае идет о каком-то полумифическом древнем существе, а не о том вполне реальном Учителе Конфуции, который выведен в тексте Лунь юй. Следовательно, ко времени первого периода деятельности Дунь Чжуншу – причем, к этому времени уже существовали все вышеперечисленные классические тексты – традиционного Лунь юя существовать еще не могло. Иначе все те составители, которые писали подобные «комментарии» – а сами эти тексты являются доказательством того, что со знанием письменности у авторов было все в порядке – уже давно бы знали совершенно «другого» Конфуция из Лунь юя. И сочинять подобные «фантазии» после прочтения знакомого нам текста Лунь юй было бы абсурдом.
Какие же суждения следует отнести к авторству древнего Чжун-ни? Некоторые из суждений резко выделяется на фоне всего текста Лунь юй своей предельной архаичностью, неподдельной страстностью и мощным зарядом энергии. Кун Аньго внес их в книгу для доказательства того факта, что речь идет об одном и том же персонаже, – чтобы отождествить своего «нового» Кун-фу с древним Чжун-ни. Однако манера высказываний Кун-цзы в отличие от Чжун-ни совершенно иная: рассудочная, взвешенная и гораздо менее экспрессивная. И она – более современная. Для того чтобы читатель смог наглядно увидеть образ этого древнего пророка Китая, приведем буквальный перевод двух его характерных высказываний, наиболее «примитивных» во всем Лунь юе. Первое из них – о ритуальном кубке для вина, который имеет название гу.
6.25. [Чжун-ни] сказал (правильнее в этом случае перевести – «возопил» – Г. Б.): «Гу – не гу! Гу – не гу! Разве это гу? Разве это гу?
Вот и всё высказывание. И это – не малый ребенок кричит и капризничает. Это страстный и искренний почитатель древнего ритуала вдруг видит, что во время богослужения ему подают чарку вина не в древнем традиционном кубке из бронзы, а в какой-то имитации кубка, изготовленной из вошедшей к тому времени в моду керамики. И это – приблизительно то же самое, когда в деревне режут свинью. Такой же ужас!
Второе высказывание этого выдающегося деятеля древнего Китая является реакцией на подлинное, а не лицемерно скрываемое отношение окружающих к ритуалу. Он это видит и реагирует характерным для него образом. А значит, это «суждение» тоже взято из реальной жизни. Порядок слов в нашем переводе соответствует очередности следования иероглифов в тексте.
17.11. [Чжун-ни] сказал: «Ритуал», – [все] болтают! «Ритуал», – [все] болтают! О нефрите и шелках болтают, – увы и ах! «Музыка», – [все] болтают! «Музыка», – [все] болтают! О колоколах и барабанах болтают, – увы и ах!
«Увы и ах!» – это так называемые «пустые» иероглифы, поставленные в тексте для того, чтобы передать эмоциональное состояние произносящего высказывание. Иероглиф, который мы перевели словом «болтают» (более культурный перевод – «выспренно говорят»), повторяется в этой короткой экспрессивной фразе шесть раз! То есть по одну сторону одного и того же действия – подлинное Ли, сопровождаемое ритуальной музыкой, а по другую – того же самого действия! – «болтовня, болтовня, болтовня…». Трагедия состоит в том, что оба эти несовместимых явления «наложены друг на друга»: они происходят в едином пространстве и в едином времени. И для Чжун-ни это – невыносимо!
Смысл заключается в том, что во время проведения ритуала в качестве ритуальных принадлежностей и ритуальной одежды использовались самые дорогие изделия из нефрита и одежды из дорогостоящего шелка. В ином виде перед духами представать было нельзя. Но собравшейся на это таинство публике уже нет никакого дела до самого богослужения: она праздно глазеет по сторонам и перешептывается между собой о том, кто во что одет, насколько богаты украшения и насколько хорошо изготовлены те музыкальные инструменты, которые используются для сопровождения ритальных действий. Упоминание о «каменных» барабанах и колоколах свидетельствуют о подлинной древности этого суждения.
Кроме этих приведенных, можно назвать еще порядка пятидесяти-ста характерных суждений (из почти пятисот, входящих в Лунь юй), которые соответствуют требованиям подлинной древности и характерной для того времени «бесхитростности». Например, такие как «На гнилом дереве не сделаешь резьбы» (5.10), «Феникс не появляется, из реки не выходит рисунок (?). Конец мне!» (9.9), «Бывают стебли без колоса, бывает колос без зерна» (9.22), «Очень я опустился, давно не вижу во сне Чжоу гуна» (7.5), «Где укрыться человеку?» (2.10), суждение о «связке сушенного мяса» (7.7) и другие. Кроме того, Чжун-ни, судя по всему, очень любил музыку и обладал незаурядными музыкальными способностями. Значительная часть суждений Лунь юя, посвященная музыке, берет свое начало от высказываний этого древнего подвижника. Для более точного выделения первоначальных древних суждений необходимо профессиональное исследование всего текста.
Когда в ханьском Китае рассуждали о «конфуцианстве» времени от VI в. до н. э. и до эпохи Хань, – т. е. до появления философии Дун Чжуншу – в этом не было ничего удивительного. В действительности, в этом случае речь всегда шла о том «протоконфуцианстве», которое являлось «отсветом» или всенародной памятью о тех далеких временах, когда в почете были Ли, Тянь, Дэ, Вэнь и Сяо, т. е. о времени Раннего Чжоу. И в представлении китайцев в качестве истинного последователя или «древнего конфуцианца» выступал мудрец Чжун-ни.
В I в. н. э. в Китае жил придворный историограф Бань Гу, который написал исторический труд под названием Хань шу («История династии Хань»). Сам он причислял себя к конфуцианцам и вот что он писал в кратком обзоре тех школ, которые существовали в Китае в его время (Древнекитайская философия. Эпоха Хань, стр.322):
Конфуцианская школа берет начало от чиновников приказа культа и просвещения, [она] помогает государям следовать силам инь и ян, разъясняет, как добиться изменений воспитанием. Она ищет образованности в шести канонах (об этих книгах мы уже упоминали – Г. Б.), останавливает внимание на [вопросах] человеколюбия и чувства долга, истоки ее восходят к Яо и Шуню, в принципах своих она следует Вэнь-вану и У-вану, своим первоучителем она считает Чжун-ни и всем этим возвеличивает свое учение, в вопросах Пути (Дао) она занимает высшее место. Конфуций говорил: «Если я кого-то усиленно восхваляю, это уже проверено». Процветание при Тане и Юе, изобилие при Инь и Чжоу, славные дела Чжун-ни – все это проверено и дало результаты.
Интересно знать, какие «славные дела» можно приписать «главному герою» Лунь юя? Вряд ли все то, что он делал, можно назвать действительно достойным «славы». Все такое «славное» происходило внутри него самого и оставалось невидимым для окружения. А иначе он никогда бы не плакал перед своей смертью, всеми брошенный. Обучение древнему делу не является «славным», как и беседы с учениками. В этом случае следовало бы подобрать какие-то другие слова. Славные дела – были у Вэнь-вана и У-вана, у Конфуция же таких дел не было. А вот у древнего Чжун-ни такие дела, наверное, действительно были, судя по его «истошным воплям» о неправильном кубке.
Обратим внимание читателя также на тот важный факт, что в приведенном выше тексте I в. н. э. дважды повторяется имя Чжун-ни, и только один раз – Конфуций. Логично предположить, что первоначально на месте «Конфуция» тоже стояло имя Чжун-ни, но после того, как текст Лунь юй приобрел известность, одно из этих имен – как раз «посерёдочке» – исправили на более знаменитое к тому времени Конфуций. Ведь и сегодня мир знает именно Конфуция, и только специалисты или сами китайцы – Чжун-ни. Причем, обратный вариант – замена в этом тексте известного имени Конфуций на менее известное имя Чжун-ни – маловероятен.
Можно привести еще не один пример того, как в древних текстах – тех, которые датируются временем до предположительного появления Лунь юя – предпочтение отдается имени Чжун-ни, а не более позднему имени Конфуций. Например, в книге Янь те лунь («Рассуждения о соли и железе») конфуцианец Хуань Куань (I в. до н. э.) пишет следующее (там же, стр. 170): «Знаток писаний следует Чжун-ни как основоположнику, восхваляет и воспевает его силу Дэ, считает, что с древности и поныне другого такого еще не бывало».
Но более интересны в данном случае выдержки из книги Фа янь («Образцовые речи»), котрая принадлежит кисти философа-конфуцианца Ян Сюна (53 г. до н. э. – 18 г. н. э.). Это был известный сторонник школы «древних текстов». Школа утратила свои позиции в 79 г. н. э. после проведения императорского диспута «в зале Белого тигра», когда окончательно победила школа «новых текстов», – диспута, после которого учение Дун Чжуншу было утверждено в качестве официального конфуцианства.
Структура книги Фа янь построена преимущественно по принципу «вопрос-ответ»: вопрос ученика и затем ответ учителя. В данном случае читателю не следует пытаться понять суть самой беседы – мы намеренно приводим очень короткие цитаты, – главное для нас то, как воспринимался образ Чжун-ни в Китае того времени. В главе первой («Осуществление учения») Ян Сюн пишет следующее (там же, стр. 170):
Не сохранен ли Чжун-ни Путь Неба? Чжун-ни передавал и толковал этот Путь, а когда его не стало, не сохранился ли он у нынешних конфуцианцев? А если Путь Неба снова нуждается в передаче своих толкований, то лучше всего использовать конфуцианцев в качестве металлических колоколов с деревянными языками.
В данном случае Ян Сюн сравнивает «нынешних конфуцианцев» – а значит, и себя самого – с «Конфуцием» (как будто) из уже известного читателю суждения Лунь юя. Что такое «металлический колокольчик с деревянным языком» – читатель уже знает. Следовательно, претензии самого автора на то, что он в состоянии разъяснить «Путь Неба», – не имеют никаких оснований. Далее он пишет (стр. 203):
Говорю: «Есть такие, которые обучают, как установить Путь, но не думают о Чжун-ни» <…> Некто сказал: «Установление Пути – но Чжун-ни уже не может думать об этом».
И далее (стр. 204, 205):
Некто спросил о том, как управлять собой. Отвечаю: «Управляй собой, равняясь на Чжун-ни». Тот спросил: «Управлять собой, равняясь на Чжун-ни? Но разве Чжун-ни не исключителен?». <…> Некто спросил: «В Лу было мало добродетельных, почему же там любили обращаться с вопросами к Чжун-ни?» Отвечаю: «На самом деле в Лу не любили обращаться с вопросами к Чжун-ни. Если бы там любили обращаться вопросами к Чжун-ни, то Лу заняло бы место Восточного Чжоу».
В главе «Спрашиваю о Пути» Ян Сюн пишет следующее (стр. 206, 209):
Некто спросил о Пути. Отвечаю: «Путь проходим, на нем нет непроходимых мест». Тот спросил: «А можно ли идти по другому [Пути]?» Отвечаю: «Идти к Яо, Шуню, Вэнь-вану – это правильный Путь. Отвергать Яо, Шуня, Вэнь-вана – это иной Путь. Благородный муж держится правильного Пути, а не иного». <…> Некто спросил: «Что не следует брать за образец?». Отвечаю: «Образец – это образец танского Яо и юйского Шуня и основателей династии Чжоу».
Из приведенных выше цитат можно сделать следующий вывод. Для «конфуцианцев» I в. до н. э. отнюдь не Чжун-ни (якобы Конфуций) был родоначальником истинного Пути и тем «образцом», котрому следует подражать. Подлинными образцами являлись совершенномудрые правители древнейшей истории Китая – такие, как мифический Яо и Юй (китайцы были убеждены в их реальном существовании), а также первые правители Чжоу (Вэнь-ван, У-ван, Чжоу-гун). Их Путь – это и есть то «конфуцианство», о котором рассуждает Ян Сюн. А о Чжун-ни он сказал выше: «Чжун-ни передавал и толковал этот Путь». Но не создавал, и это для него главное. Эта же мысль проходит у него красной нитью ниже (глава пятая: «Спрашиваю о духовном», стр. 210, 212):
«Осмелюсь спросить, как разум проникает до совершенномудрого?» Отвечаю: «В старину Чжун-ни разумом дошел до Вэнь-вана и постиг его… В “Ши цзине”, “Шу цзине”, “Ли цзи” и “Чунь цю” есть заимствованное и есть созданное, а составил их Чжун-ни».
Некто спросил: «[Чжун-ни] передавал, но не создавал»… Отвечаю: «Его деяния переданные, а его писания созданные».
По мнению Ян Сюна заслуга Чжун-ни заключалась именно в том, что он смог взять «за образец» Вэнь-вана и «постичь его». И когда Ян Сюн заявляет далее (стр. 213), что «благородный муж мягок в человеколюбии», это свидетельствует о том, что подлинного значения Жэнь он не знает. А вот насчет Цзюнь цзы здесь можно поспорить. Если понимание этого термина в Лунь юе является «нововведением» Кун Аньго, а не Чжун-ни (ведь Ши цзин древнее, чем Чжун-ни!), в таком случае, к Ян Сюну претензий нет. Это будет означать только то, что он, как и Чжун-ни, оперирует категориями Ши цзин.

