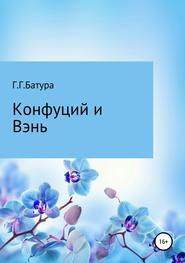 Полная версия
Полная версияКонфуций и Вэнь
Объективность этих наших предположений читатель сможет оценить после прочтения всей книги, а сейчас вернемся немного назад и поговорим об иероглифе сюэ («учиться/подражать»). Характерный рисунок этого иероглифа обязательно вызовет у подготовленного в иероглифике читателя определенные ассоциации. В одной из своих бесед Конфуций называет себя иньцем, и делает это неспроста. Тем самым он заявляет в какой-то степени и о своем знании «иньских знаков». Письменный язык иньцев, предшественников чжоусцев, был не богат, и в этом языке не существовало иероглифа для обозначения «сердца», поэтому на знаке Вэнь иньцы, на месте сердца, рисовали, чаще всего, «косой крестик» или другие значки. Конфуций не знать этого не мог. Более того, два таких «крестика», поставленные друг над другом, почти дают нам рисунок того «человека» (вид спереди), которого мы видим в иероглифе Вэнь. Различие заключается только в том, что если у Вэнь «голова» обозначена в виде вертикальной черты, то здесь она как бы «раздваивается» под углом. Понятно, и спору нет, что это – разные знаки, но у читателя, натренированного в рассматривании иероглифов, подобные ассоциации обязательно возникнут. Но речь, конечно, не об этом: на груди у иньского Вэнь был нарисован именно такой «косой крестик».
А отсюда возможно также и то, что сам Конфуций видел в этих «крестиках» рисунок «двух сердец» – свое и ученика, – и понимал это как «работу с сердцем». Ведь именно благодаря такой работе человек достигает сотояния Вэнь. А тот условный рисунок «двух рук», который мы видим по обе стороны от этих «крестиков», в одном из древних иероглифов, например, мог обозначать не «ру́ки», а гнездо птицы на дереве (см. CHINESE CHARACTERS by Dr. L.WIEGER, p.42), – гнездо, в котором вылупились птенцы… «Птенцы» в виде «просветленных сердец». Все это, конечно, только предположения.
Для того чтобы как-то приблизиться к образу восприятия мира Конфуцием, мы должны еще и еще раз обращаться к этому непонятному для нас факту («крестики» на сюэ): пытаться сравнивать между собой эти «крестики» на иероглифе сюэ с «крестиком» на иньском Вэнь, и стараться понять внутреннюю связь между ними. Ведь если быть справедливым и смотреть глубже, в таком случае предлагаемая сегодня научная «расшифровка» многих древних знаков письменности гу вэнь не стоит и «выеденного яйца». Да, конечно, древнее изображение иероглифа «дерево» по своему рисунку действительно соответствует «живому» дереву в жизни, а иероглиф «солнце» – изображает солнце, которое мы видим на небе и т. д.
Но дальше подобного упрощенного подхода эта «дешифровка» не продвинулась, потому что за пределами понимания ученых по-прежнему остаются те базовые основы жизни аристократа периода Раннего Чжоу, которые превращают известный всем иероглиф Вэнь в реальное обозначение конкретного духовного опыта человека, – вместо придуманных гораздо позднее «татуировки», «письменности» или «искусства». И ведь именно такое его понимание – как опыт или что-то близкое к этому – становится очевидным, если взглянуть на рисунок иероглифа непредвзято: большой человек, а на груди у него – открытое сердце. Какое же это «искусство»? И какая же это «письменность»? Ведь китайцы всегда были очень конкретными людьми. Даже глупая «татуировка» здесь более оправдана.
Итак, давайте приглядимся к древним иероглифам повнимательнее, – с той целью, чтобы понять, что́ именно обозначало наше сюэ в далекие иньские времена? И как обозначалось тогда иньское Вэнь? Вот с этого иероглифа – с иньского Вэнь – мы и начнем. Сделаем это для того чтобы сначала определить принадлежность «косого крестика» к чему-то конкретному. При этом следует предупредить нашего читателя вот о чем. Нам не следует относиться к умственным и логическим способностям древнего человека, как к чему-то более низкому и «второсортному» по сравнению с современным человеком. Думать так – это очевидная глупость и непростительное заблуждение. Если мы будем представлять себе этих людей некими «дураками», в таком случае мы ничего не поймем в их сложной жизни.
Итак, изображение иньского иероглифа Вэнь обычно повторяется в виде трех вариантов: Вэнь с «галочкой» на груди, Вэнь с «косым крестиком» и Вэнь с более сложным рисунком, который, скорее всего, обозначает древний знак «огонь». Мы намеренно выстроили эту «цепочку Вэнь» в порядке ее графического усложнения. Сам рисунок «человека» – и в иньском Вэнь, и в Вэнь у чжоусцев – оставался одним и тем же. Логично и естественно предположить, что для практичного китайца все эти подобные рисунки являлись отображением каких-то последовательных стадий развития чего-то в человеке. Из анализа самого Вэнь мы уже не сомневаемся в том, что речь идет о вещах духовных. И если это действительно так, в таком случае для нас в этом уже нет никакой тайны: речь идет о трансформациях, происходящих в сердце. Причем, сам Конфуций уже частично дал ответ на наш вопрос, когда в одном из своих известных суждений заявил, что у Дэ «есть соседи» (мы это суждение будем разбирать в порядке очередности). Но определяющей для решения этой загадки является наша уверенность в том, что древний китаец мыслил практическими категориями. Он и свое «просветление сердца» (мин синь) тоже воспринимал очень конкретно, безо всяких «заоблачных» рассуждений.
Итак, из выстроенного нами разряда «людей-Вэнь» первый знак – «галочка» – это стандартное графическое изображение наконечника стрелы (начиная с текстов «на костях»). Этот знак (без древка стрелы) указывает на то направление, откуда «стрела» прилетела. В нашем случае – сверху. То есть такое Вэнь должно было обозначать человека, который получает Дэ от «духов верха». «Соседом» такого Дэ, или следующей стадией, является изображение «косого крестика». По аналогии – это изображение двух «наконечников стрел», обращенных остриями друг к другу. После получения Дэ у человека возникает ответная реакция, т. е. эта та стадия, которая отображает начавшийся мысленный диалог с теми конкретными «духами верха» (или «духом»), которые это Дэ транслировали (человек, как правило, знает, от кого конкретно это Дэ получено).
И далее следует рисунок Вэнь со знаком «огонь», – очередная ступенька духовного роста. Знак «с огнем» – это и есть полностью «свершившееся» Вэнь, т. е. это то состояние Вэнь, которое позднее стало называться мин синь – «свечение сердца». Доказательством правильности таких наших рассуждений является известный гимн из Книги стихов (Ши цзин), который называется Ле Вэнь (по первым иероглифам этого величественного гимна). В переводе А. Штукина этот гимн из раздела «Гимны дома Чжоу» (IV, I, 4) имеет название «Вы, князья просвещенные». В действительности это словосочетание следует понимать как «Горящее Вэнь [прежних государей]». В иероглифе ле (БКРС № 14928 – «пылающий», «яростный», «сильный (огонь)») этот «огонь» присутствует в своей графической форме. Гимн адресован древним соратникам Вэнь-вана, получившим опыт Вэнь, и в нем этот опыт впрямую назван «огненным». Итак, мы разобрались с тем, что представляло собой древнее иньское Вэнь.
В число иероглифов лексикона Инь входил и наш иероглиф сюэ. А следовательно, тот «крестик», который мы видим в этом изображении и в изображении иероглифа Вэнь, не может быть ничем иным, кроме сердца, в котором происходит мысленное общение с «духами верха». Не мог древний китаец, который почитал мир духов, и который нашел способ «открывания двери» в этот мир с помощью опыта Вэнь, обозначать одним и тем же «крестиком» сердце человека – вместилище этого опыта – и какую-то сотканную «ткань». Такое можно предпололжить только в нашем современном обществе, но не в мире древних.
В графике «на костях животных» (служили для целей гадания) существовал иероглиф в виде двух «косых крестиков» друг над другом, который предположительно произносился как яо. Сегодня он присутствует в качестве отдельного знака только в И-цзине (Книга перемен), но что́ он конкретно означал, ученые не знают. Исследователь древних иероглифов Китая, католический монах доктор Л. Вигер, в книге «Китайские иероглифы: их происхождение, этимология, история, классификация и значение» (“Chines Characters. Their origin, etymology, history, classification and signification. A thorough study from chinese documents”. Paragon Book Reprint Corp., New York. Dover Publication, Inc., New York, 1965, p. 109) пишет, что знак яо означал «взаимное действие и противодействие; влияние; симметричное расположение; сеть и т. д.». Первые два значения – это и есть, как нам кажется, самые правильные.
В это же историческое время в Китае существовали иероглифы, которые графически представляли собой соединение двух или трех уже известных нам знаков: например, сверху «два крестика», а под ними – древнее изображение святилища; или – сверху один «крестик», по сторонам от него – «руки», и под этим «ансамблем» – все тот же храм. Одновременно с этими иероглифами существовали и такие, которые наряду с «двумя руками», или без них, дополнительно имели в своем составе «руку, держащую палку». В композиции этот знак всегда помещался справа. В дальнейшем значение этой «палки» было уточнено коротким перпендикулярным боковым штрихом, примыкающим к этой «палке» справа.
После такого дополнения исследователю должно быть понятно, что «рука» держит вовсе не какую-то «указку» для обучения, или «палку» для наказания ученика, а древний знак гадания – бу, который всегда имел конкретное значение: «обращение к миру духов» с целью запроса. И такое обращение может быть реализовано только при участии человеческого сердца. В число иероглифов, скомпанованных из указанных выше знаков, входят и такие, в которых присутствует знак цзы, «сын», который мы и видим в современном иероглифе сюэ.
Из приведенного подробного исследования древних иероглифов с «крестиками» ясно следует, что ни о какой «учебе» в нашем понимании этого слова речи быть не может: главным участником той древней «учебы», о которой идет речь в этом суждении, является сердце человека, обращенное к миру духов. И если кто-то по-прежнему считает, что привычная для всех нас «учеба» как раз и предполагает именно такой процесс обращения ученического сердца к «верхам», ну что же, в таком случае мы согласимся с тем, что сюэ – это дейстивительно «учеба».
Другой иероглиф этого суждения – лэ несет в себе больше смыслов, чем даже пэн. В древности он означал «*гармонию» или «*согласие» (т. е. «единомыслие»). И нам понятно, почему он здесь вдруг оказался: между такими необычными и неожиданными «друзьями» действительно возникало идеальное согласие по всем вопросам, – и даже гармония, – настолько одинаково они думали и настолько одинаковые чувства испытывали! Так ли это, и возможно ли такое вообще в жизни? А почему же нет? – Ведь сторону Вэнь-вана (или Чжоу-гуна) излагает тот текст (иероглифический!), который «читает-видит» Конфуций, а «сторона» Конфуция – это он сам, т. к. он прекрасно знает, во что он верит и что для него является главным в этой жизни. Еще раз скажем читателю: тот древний иероглифический текст, который читает Конфуций – это как живое «немое кино», а точнее, – прообраз кино, в котором «картинки» бегут друг за другом, а у Конфуция – великолепное воображение. Из самого текста Лунь юй ясно, что когда Конфуций что-то говорит своим ученикам, он как будто видит перед собой бегущую ленту этих «сказанных им» иероглифов (существует именно такое суждение).
И если бы этот иероглиф лэ был записан знакомыми нам «буковками» (если бы мы видели его произношение, а не картинку), на этом можно было бы успокоиться. Но в древнем Китае существовал точно такой по рисунку иероглиф, который имел уже другое произношение: юэ, а значит, и другое значение. Ка́к именно следовало его понимать в тексте, а значит, и произносить – определялось из контекста. При произношении юэ он переводится как «*музыкант», «музыка». То есть можно вполне обоснованно предположить, что для Конфуция такая «встреча» ассоциировалась и с той настоящей «музыкой [души]», которая услаждала его слух во время проведения религиозных церемоний. Итак, здесь мы видим сравнение одновременно с «драгоценностью», «гармонией» или «согласием» в мыслях и «музыкой». Конфуций, как увидит читатель далее, был подлинным поклонником и даже знатоком духовной музыки, а значит, такое понимание этого иероглифа возникает у нас не случайно.
О других значениях иероглифа лэ – «радость», «наслаждение», «блаженство» – мы уже упоминали, но при этом следует учитывать то важное обстоятельство, что, возможно, эти значения возникли уже позднее, в результате «объяснения» данного суждения древними комментаторами Лунь юя. Во время жизни самого Конфуция таких значений у этого иероглифа могло не существовать.
Более интересно для нас в этом иероглифе другое – его рисунок. Если в уже рассмотренном иероглифе пэн мы видим две одинаковых «связки нефрита», – то и здесь подобие этому: в изображении иероглифа лэ присутствует два одинаковых значка, но уже других. Такой прием в иероглифическом письме можно назвать «графической рифмой», и если он применен в тексте, – значит, это, скорее всего, не случайно, и это может нести в себе какой-то дополнительный смысл. В верхней части иероглифа лэ мы видим два одинаковых знака, расположенных по сторонам от центрального знака бай – «белый» (цвет траура, ритуальный цвет династии Инь-Шан). Оба эти симметрично расположенных знака – это изображение «шелковинки», тончайшей нити червя-шелкопряда. Такой иероглиф издавна свидетельствовал о чем-то «тончайшем» и даже «сокровенном» (О. М. Готлиб, стр. 198: сюань – «прикрытое, затемненное, нить»). Вот это «тончайшее» и присутствует в тексте суждения в качестве подразумеваемого смысла, хотя и не в очевидной форме. Именно это «тончайшее» и резонирует графически с иероглифом пэн.
Но почему же «не в очевидной форме»? – Ведь рисунок этого «тончайшего» в передаче общего смысла присутствует. Вопрос в данном случае заключается в том, ка́к нам следует понимать тот «модернизированный» текст Лунь юй, который мы сейчас разбираем? – что́ в нем осталось от «рисунка» того изначального текста, который безвозвратно утерян? Ведь кто-то может сказать, что сейчас мы имеем дело просто с какими-то «буковками», записанными в виде иероглифов, которыми и заменили совершенно другие первоначальные «рисунки». Однако рассмотрение содержания всех суждений Лунь юя в целом свидетельствует о том, что в таком «переформатированном» на новый стиль тексте древние рисунки первоначальных иероглифов (или намеки на них) во многом сохранились. А значит, такой метод выявления в этом тексте дополнительных смыслов отвечает подлинному содержанию первоначального Лунь юя.
И вот теперь мы с читателем повторно зададим себе тот вопрос, который поставили в самом начале рассмотрения этого суждения: почему слова Конфуция о «друге из бамбуковой книги» попали в самое начало Лунь юя? Могло ли это быть простой случайностью? Вряд ли. Ведь вполне понятно, что важность этого суждения была как-то акцентирована самим Конфуцием в разговоре с учениками еще при его жизни, а ученики просто реализовали эту «важность», поставив эти слова Учителя на первое место в книге. Более того, Конфуций обязательно должен был им объяснить, какие конкретно знаки он имел в виду, когда произносил это суждение – в прямом смысле слова «нарисовать» им иероглифы сюэ и пэн. А значит, представить это в качестве некой «загадки», требующей индивидуального решения.
И здесь мы можем – пусть и очень осторожно – предположить следующее. Важность этого суждения была бы оправдана в том случае, если бы именно такая «встреча» Конфуция с «книжным другом» и ее неожиданные последствия – в виде получения Конфуцием благодати Дэ – когда-то натолкнули Учителя на гениальное осознание смысла древнего иероглифа Жэнь.
Фактически, эта «встреча» и все подобные ей, были подлинным воспоминанием о «давно ушедшем времени», и, судя по всему, именно такие «воспоминания» – наравне с «подражанием древним» в ритуале Ли – привели Конфуция к первоначальному получению им Дэ. Впоследствии, обдумывая все то, что с ним произошло, – начиная от чтения им этой книги и завершая осознанием того, что тот неожиданный «подарок», который он получил откуда-то «сверху», это и есть то таинственное Дэ, о котором он читал (и которое «видел») на древних бронзовых сосудах, – Конфуций пришел к единственно возможной и закономерной мысли: то, что произошло с ним самим, уже когда-то было с другими людьми, а значит, это можно повторить и его современникам.
Необходимо только – рассуждал далее Конфуций, – чтобы этот человек использовал те же самые «приемы», которые помогли ему самому получить Дэ. Конфуций взял в руки палочку для письма, обмакнул в чернила и нарисовал так, как будто увидел это впервые – как будто он никогда не видел этого знака в Ши цзин: «человек», а рядом с ним – «дух верха». «Это и есть человек, который предстоит духу верха» – подумал он. Но ведь фактически, это является той «древней фотографией», на которой изображено чтение им самим захватывающей книги о Вэнь-ване. И вполне вероятно, что осознавая этот иероглиф, Конфуций видел в нем свой собственный «автопортрет»: где нарисован человек-жэнь – это он сам, Кун-цзы.
Бесспорно, что все то, что мы сейчас вообразили про Конфуция, возможно только в том случае, если человек сначала получает какое-то неожиданное для себя состояние (духовный опыт), – а затем долгие месяцы и годы тратит на то, чтобы найти объяснение этой загадке – тому, что́ с ним произошло. Конфуций нашел объяснение, читая Книгу стихов Ши цзин и изучая надписи на древней бронзе Раннего Чжоу. А такая возможность у него была, когда он – еще в молодые годы – заведовал поставкой жертвенных животных в Храм предков.
Ранее мы обещали нашему читателю, что при рассмотрении этого суждения познакомим его со стихотворением «Северный ветер» из сборника Ши цзин. С какой целью? – читатель поймет это сам после того, как ознакомится с переводом и объяснением этого стихотворения. Итак, даем «буквальное» прочтение этого стихотворения.
Песни царства Бэй. «Северный ветер/Духи севера» (I.II. 16)
Северный (бэй) ветер (фэн) – он (ци) [такой] холодный (лян).Сыплет (юй) снег (сюэ) – он (ци) [такой] обильный (пан).[Ты] благосклонен (хуй) и (эр) ласков (хао) ко мне (во).Возьми (се) [меня] за руку (шоу), вместе (тун) отправимся в дальний путь (син).Те (ци) [которые рядом] – призраки (сюй), они (ци) – коварные (се).Издавна (цзи) спешили (цзи) [на помощь] только лишь (чжи) предки (цзу).Северный (бэй) ветер (фэн) – он (ци) порывисто завывает (цзе).Валит (юй) снег (сюэ) – он (ци) сыплет густой массой (фэй).[Ты] благосклонен (хуй) и (эр) ласков (хао) ко мне (во).Возьми (се) [меня] за руку (шоу), вместе (тун) отправимся в обратный путь (гуй).Те (ци) [которые рядом] – призраки (сюй), они (ци) – коварные (се).Издавна (цзи) спешили (цзи) [на помощь] только лишь (чжи) предки (цзу).В поздний час (му) – [только] рыжие (чи) разбойничьи (фэй) лисы (ху).В темноте (му) – [только] черные (хэй) подлые (фэй) во́роны (у).[Ты] благосклонен (хуй) и (эр) ласков (хао) ко мне (во).Возьми (се) [меня] за руку (шао), вместе (тун) [поспешим] на колеснице (чэ).Те (ци) [которые рядом] – призраки (сюй), они (ци) – коварные (се).Всегда (цзи) спешили (цзи) [на помощь] только лишь (чжи) предки (цзу).Немного отвлекаясь от темы еще раз зададим себе вполне уместный в данном случае вопрос: при таком климате в древнем Китае, при таких метелях и снегах, разве логично вести речь о какой-то «татуировке»-Вэнь?
Для сравнения не можем удержаться от того, чтобы не дать читателю художественный перевод А. Штукина, – хотя бы только двух первых строк третьей строфы этого стихотворения:
Край этот страшный – рыжих лисиц сторона.Призрак зловещий – воронов стая черна.Для того чтобы читатель более «объемно» представил себе содержание этого прекрасного стихотворения, приведем словарные значения некоторых входящих в него иероглифов.
Сюй – «пустой», «полый», «ложный», «нереальный», «призрачный», «воображаемый».
Се – «злой», «дурной», «подлый», «низкий», «пагубный», «зловредный», «хитрый», «лукавый», «коварный», «ложный», «дьявольский», «нечистый».
Цзи – «издавна», «с самого начала», «исконно», «всегда», «уже», «вскоре».
Цзи – «срочный», «поспешный», «торопливый», «торопиться», «спешить».
Хуй – «доброта», «милость», «благосклонность», любовь», «доброе отношение», «сочувствие», «милостивый», «добрый», «мягкий», «благосклонный» (в иероглифе присутствует знак синь – «сердце»).
Хао – иероглиф представляет собой рисунок женщины и рисунок маленького сына рядом, – фактически это материнская любовь или то, что желает получить китаец от своей жены – сына. Означает он – «хорошо».
Попытаемся пояснить это стихотворение, – так, как понимал его читатель-аристократ во времена Раннего Чжоу. «Северный ветер» (также «Северные ветры»; показателя множественного числа в древнектитайском языке не было) – это, как мы уже объяснили раньше, – то же самое, что и «дух/духи Севера». Север – это всегда холод и одновременно – белый цвет снега, который для Китая, начиная от династии Шан-Инь и до настоящего времени, означал и означает цвет смерти. Местоимение ци используется в этом стихотворении в отношении ветра и снега, следовательно, и в пятой строке эти два ци тоже имеют отношение к коварным духам зла, которые препятствуют человеку встать на правильный Путь. В последней строфе присутствует иероглиф «колесница», следовательно, стихотворение произносится от лица очень богатого человека – аристократа.
Стихотворение является внутренним обращением человека, практикующего технику Жэнь, к тому «духу верха», который обозначен в рисунке иероглифа Жэнь его правым знаком шан («[дух/духи] верха»). Скорее всего, это дух Вэнь-вана или дух какого-то конкретного умершего родственника, получившего при жизни «статус-Вэнь».
В стихотворении рефреном повторяется мысль о том, что главному герою следует без промедления отправиться обратно в дальний путь, причем, эта мысль выражена в форме крещендо. Древние китайцы были уверены в том, что они пришли в наш мир из прекрасного (выражаясь современным языком, – райского), далекого «мира предков», и они стремились в этот мир снова вернуться. Автор стихотворения очень четко и осознанно различает между собой так называемых «призрачных» духов природы – конкретно духов Севера – и того реального для него духа предка (цзу), котрый принимает активное участие в подготовке к этому его возвращению и который – именно с этой целью! – транслирует ему «свыше» благодать Дэ.
Именно такого «друга» пэн и имеет в виду Конфуций, когда упоминает о нем в первом суждении Лунь юя. И словосочетание лао пэн (букв. «старый друг»), которое читатель встретит в одном из последующих суждений и которое непонятно комментаторам, – это и есть «древний пэн» из настоящего суждения. И вот теперь, после прочтения этого прекрасного стихотворения, выражение «возьми [меня] за руку» (или «возьмемся за руки») для читателя становится понятным.
«Не таков ли Цзюнь цзы?» – этими словами Конфуций завершает вступительное суждение ко всей Книге. И отсюда можно сделать вывод, что главной целью такого «зачина» является как бы первоначальное знакомство слушателя или введение такого слушателя в необычный для современников «мир Цзюнь цзы». Конфуций эскизно рисует то главное, что является самым характерным в облике этого человека. Откуда он взял весь этот фактический материал для своего «рисунка»? Ведь среди тех людей, которые его окружают, такого персонажа нет. Но если бы даже кто-то и был, то для того, чтобы нарисовать подобный «портрет», необходимо в прямом смысле слова «влезть в душу» этого человека. Вывод, как уже понимает наш читатель, напрашивается сам собой: Конфуций, фактически, рисует свой «автопортрет». А значит, он сам – это подлинный Цзюнь цзы.

