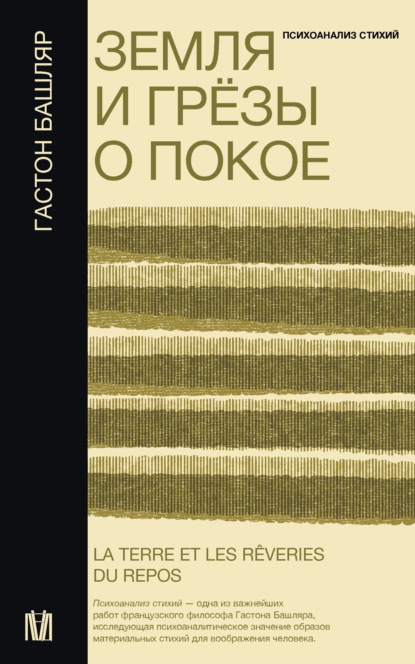
Полная версия:
Земля и грёзы о покое
Если мы собираем столь бредовые тексты и такие чрезмерные образы, то это потому, что их смягченные и скрыто действующие формы мы обнаружили у авторов, по всей вероятности, не испытавших влияния повествований алхимиков и не читавших старинных колдовских книг. После того, как мы прочли страницу о корне папоротника у автора XVII века, неудивительно встретить искушение подобным образом и у столь осторожного писателя, как Каросса. В «Докторе Гионе»[44] читаем как Цинтия, юная скульпторша, режет помидор (trad. р. 23):
«Такой плод много понимает в блеске», – заявила она и, показывая надрез белой сердцевины, которую окружал красноватый кристалл мякоти, попыталась продемонстрировать, что эта сердцевина напоминала ангелочка из слоновой кости, коленопреклоненного и с крыльями, заостренными, словно у ласточек.
Почти то же читаем и в «Инферно» Стриндберга (р. 65):
Когда посаженный мною орех через четыре дня пророс, я отделил зародыш в форме сердечка не больше грушевого зернышка, вставленного между двумя семядолями и напоминавшего видом человеческий мозг. Пусть же судят о моем волнении, когда на столике микроскопа я заметил две маленькие ручки, белые, словно алебастр, поднятые и сложенные как во время молитвы. Видение? Галлюцинация? Да нет же! Ошарашивающая реальность, внушившая мне ужас. Недвижные и протянутые ко мне, как при мольбе; я насчитал пять пальчиков, и большой был короче других, настоящие руки женщины или ребенка!
И этот текст, как и многие другие, на наш взгляд, характеризует мощь грез о бесконечно малом у Стриндберга, красноречивые смыслы, которыми он наделяет незначительное, – и то, что его неотступно преследовали тайны, заключенные в мелких деталях. Вообще говоря, надреза́ть плод, зернышко или миндальный орех означает готовиться к грезам о вселенной. Любой зародыш существа есть зародыш грез.
Величайшие из поэтов, слегка растушевывая образы, ведут нас в глубины видéний. В «Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке» княгини Турн-и-Таксис[45] содержится пересказ сна Рильке, в котором взаимодействует диалектика сокровенности и поверхностности, диалектика, возникающая на пересечении отвращения и очарованности. Поэт в своем ночном сновидении
держит в руке комок земли, черной, влажной и отвратительной, и, по существу, ощущает по отношению к нему глубокое отвращение, омерзение и неприязнь, но он знает, что ему надо работать с этой грязью, и он с большой неохотой обрабатывает ее, словно гончарную глину; он берет нож, и ему предстоит снять тонкий слой с этого комка земли, и, надрезая его, он говорит себе, что внутренняя часть комка будет еще более ужасной, чем внешняя, и, чуть ли не колеблясь, он разглядывает внутреннюю часть, которую только что обнажил, – а это поверхность бабочки с распростертыми крыльями, восхитительная по рисунку и цвету, чудесная поверхность живых драгоценных камней.
(Betz, р. 183)Рассказ немного шероховат, но его онирические смыслы на месте. Всякий адепт медленного чтения, плавно переставляя смыслы, обнаружит могущество этого светоносного ископаемого, окутанного «черноземом».
VI4. Наряду с такими грезами о сокровенности, которые размножают и увеличивают разнообразные детали структуры, существует и иной тип грез о материальной сокровенности – последний из четырех упомянутых нами типов, – и он осмысляет сокровенность не столько по чудесно расцвеченным фигурам, сколько по субстанциальной напряженности. И тогда начинаются бесконечные грезы о беспредельном богатстве. Обнаруживаемая сокровенность предстает не столько в виде ларца с бесчисленными сокровищами, сколько как таинственная и непрерывная мощь, спускающаяся в нескончаемом процессе в бесконечно малое субстанции. Чтобы наделить наше исследование материальными темами, мы с определенностью будем исходить из диалектических отношений цвета и окрашенности (teinture). И тотчас же ощутим, что цвет представляет собой поверхностный соблазн, тогда как окрашенность – глубинную истину.
В алхимии понятие тинктуры (teinture) служит поводом для несметных метафор как раз оттого, что ему соответствует всеобщий и отчетливый опыт. В таких случаях больше всего осмысляется красильная способность (vertu tingeante). Существуют бесконечные грезы о взаимопревращении порошков, о способности окрашивать субстанции. Роджер Бэкон говорит, что силою своей тинктуры философский камень может превращать в золото собственный свинцовый вес сто тысяч раз, Исаак Голландец – что миллион раз. А Раймунд Луллий[46] писал, что, если бы мы обладали настоящей ртутью, мы окрасили бы море.
Но образы окрашенных жидкостей слишком слабы и пассивны, ибо вода – чересчур «сговорчивая» субстанция, и потому не может предоставлять нам динамические образы тинктуры. Как мы уже сказали, материальная драма, в которой замешан алхимик, представляет собой трилогию черного, белого и красного. Исходя из субстанциальной чудовищности черного, проходя через промежуточное очищение отбеленной субстанции, как добраться до высших ценностей красного? «Вульгарное» пламя имеет мимолетно-красную расцветку, которая может ввести в заблуждение профана. Необходим более сокровенный огонь, тинктура, которой удастся сразу и сжечь внутренние нечистоты, и оставить свои качества в субстанции. Эта тинктура истребляет черное, успокаивается во время отбеливания, а затем побеждает глубинной краснотой золота. Преображать означает окрашивать.
Подводя итог этой преображающей силе, после разногласий, когда одни говорили, что философский камень имеет цвет шафрана, а другие – рубина, один алхимик написал: «У философского камня все цвета – он белый, красный, желтый, небесно-голубой, зеленый». У него все цвета, т. е. все потенции.
Когда тинктура осмысляется так, что становится подлинным корнем субстанции, до такой степени, что заменяет лишенную формы и жизни материю, мы лучше прослеживаем образы «влитых» качеств и сил пропитывания. Греза о пропитывании причисляется к самым амбициозным грезам воли. Существует лишь одно дополнение к времени – вечность. Грезовидец в своей воле к коварному могуществу отождествляет себя с силой, обладающей нестираемой стойкостью. Примета может стираться. Настоящая тинктура нестираема. Внутреннее покоряется в бесконечности глубины на беспредельное время. Так хочет цепкость материального воображения.
Если бы эти грезы о внутренней тинктуре, т. е. цвет, снабженный своей окрашивающей силой, можно было представить во всем их онирическом могуществе, мы, возможно, лучше бы поняли соперничество между психологическими теориями, каковыми поистине являются учения о цвете у Гёте и Шопенгауэра, и научным учением, опирающимся на объективный опыт, каким является теория цвета у Ньютона. И тогда мы меньше удивлялись бы пылу, с каким Гёте и Шопенгауэр боролись – столь безуспешно! – с теориями математической физики. У них были сокровенные убеждения, сформированные поверх глубоких материальных образов. В общем, Гёте ставит в упрек теории Ньютона учет лишь поверхностного аспекта окрашивания. С точки зрения Гёте, цвет – не просто игра света, а действие в глубинах бытия, действие, пробуждающее существенные ощутимые ценности. Die Farben, – говорит Гёте, – sind Thaten des Lichts, Thaten und Leidem («Цвета – это деяния света, деяния и претерпевания»). «Как понять их, эти цвета, без сопричастности к их глубинному деянию? – думает такой метафизик, как Шопенгауэр. – А каково действие цвета, если не окрашивание?»
Этот акт окрашивания, взятый во всей своей первозданной силе, немедленно предстает как воля руки, руки, сжимающей ткани до последней нитки. Рука красильщика равнозначна руке месильщика, желающего добраться до дна материи, до абсолюта тонкости. Окрашивание также движется к центру материи. Один автор XVIII столетия пишет: «Ибо окраска подобна существенной точке, из которой, как из центра, расходятся лучи, размножающиеся при своей работе» (La Lettre philosophique. Trad. Duval, 1773, p. 8). Когда у рук нет силы, у них есть терпение. Домработница получает такие впечатления, проводя тщательную чистку. Интересная страница из одного романа Д. Г. Лоуренса показывает нам волю к белизне, волю к пропитке материи чистотой, когда «центр» материи столь близко, что кажется, будто материя взрывается, не в силах сохранить высшую степень белизны. Вот великая греза об избыточной материальной жизни, какую мы часто встречаем в стольких произведениях великого английского писателя:
Генриетта стирала свое белье сама ради радости отбеливания, и ничего она так не любила, как думать о том, как она увидит его становящимся все белее, когда миссис Спенсер будет выходить из моря в солнечную погоду каждые пять минут и смотреть на траву, каждый раз обнаруживая, что белье действительно сделалось более белым, – до тех пор, пока ее муж не объявит, что оно достигло такой степени белизны, что цвета взорвутся, и, выходя, она найдет на траве и в кустах куски радуги вместо салфеток и рубашек.
– Вот уж я удивлюсь! – сказала она, допуская это как вполне приемлемую возможность, и добавила с задумчивым видом: – Да нет же, это невозможно[47].
Как лучше довести грезы до абсолютных образов, до образов невозможных! Такова греза прачки, обработанная материальным воображением с желанием субстанциальной белизны, когда чистота преподносится как нечто вроде качества атомов. Чтобы зайти столь далеко, иногда достаточно как следует начать – и грезить во время работы, как умел Лоуренс.
Продолжительная верность окраски по отношению к материи может фигурировать в весьма любопытных практиках. Так, Б. Карно напоминает, что черный цвет римские живописцы создавали при помощи обожженного винного осадка: «Они полагали, что от качества вина зависит красота черноты» (La Peinture dans l’Industrie, p. 11). Итак, материальное воображение с легкостью верит в переходный характер ценностей: хорошее вино дает хорошо сгущающийся осадок, а тот – прекрасную черноту[48].
В 1783 году аббат Бертолон в книге о растительном электричестве все еще утверждает (р. 280):
Граф де Муру в пятом томе туринских сочинений поставил себе задачей доказать с помощью многочисленных опытов, что цветы содержат особо стойкое окрашивающее начало, продолжающее существовать в пепле и придающее стеклу, в которое их добавляют, цвет цветка.
Об окрашивании вглубь, как и об остальном, Свифт рассуждает забавно. В «Путешествии в Лапуту» он вкладывает в уста изобретателя следующие слова: разве не глупо ткать нить шелковичного червя, если паук может стать нашим рабом, умеющим для нас сразу и прясть, и ткать? Тогда нам только и оставалось бы, что окрашивать. И даже если так – разве паук не подготовлен и к третьему ремеслу? Достаточно было бы кормить его «разноцветными и блестящими» мухами… К тому же, поскольку цвета лучше усваиваются с пищей – отчего бы мух, скармливаемых паукам, не кормить «камедью, растительным маслом и клейковиной, необходимыми для того, чтобы паутина обрела достаточную густоту»[49] (Trad. Ch. V, р. 155).
Нам, возможно, возразят, что эти игры ума весьма далеки от серьезности грез. Но если у грез нет привычки шутить, то существуют трезвые умы, умеющие оснащать свои грезы шуткой. Одним из них был Свифт. Тем не менее остается справедливым, что его материальные фантазии формировались на тему усвоения пищи. Пищеварительная психика Свифта, которую без труда распознáет начинающий психоаналитик из-за обилия ее черт в «Путешествиях», тем самым показывает нам материальное воображение в упрощенном свете, но всегда отмеченное признаками глубинной пропитанности субстанциальными качествами[50].
Кроме прочего мы собираемся привести пример, который, по нашему мнению, как следует продемонстрирует, как столь редкостный материальный образ, как окраска, о которой грезят в ее субстанциальной пропитке, может смутить моральную жизнь и взять на себя моральные суждения. Фактически воображение с таким же пылом способно ненавидеть образы, как и ласкать их. Сейчас мы встретимся с воображением, отвергающим любую окраску как загрязненность, как своего рода материальную ложь, символизирующую прочие виды лжи. Цитата длиннее обычной, однако заимствуем мы ее у Уильяма Джемса[51], который без колебаний и вопреки ее анекдотическому характеру целиком включил ее в свою книгу «Религиозный опыт». Она покажет нам, что привлекательные черты или отвращение, формируемое воображением сокровенной материи предметов, может играть существенную роль в высших сферах духовной жизни:
Эти первые квакеры поистине были пуританами… В «Дневнике» одного из них, Джона Вулмэна[52], читаем:
«Я часто раздумывал над первопричиной угнетения, от которого страдает столько людей… Время от времени я задавал себе вопрос: во всех ли своих поступках я пользуюсь каждой вещью сообразно вселенской справедливости?..
Часто об этом размышляя, я всякий раз все больше терзался сомнениями относительно ношения шляп и костюмов, окрашенных портящей их краской… Я был убежден, что эти обычаи не основаны на подлинной мудрости. Боязнь же из-за моего странного вида отдалить от меня тех, кого я любил, сдерживала и стесняла меня. Итак, я одевался как прежде… Я заболел и слег… Ощущая потребность в большем очищении, я не имел ни малейшего желания выздороветь, прежде чем будет достигнута цель моего испытания… Мне пришло в голову раздобыть фетровую шляпу, шерсть которой сохранила естественный цвет; но страх выделяться своим внешним видом все еще терзал меня. Он стал для меня причиной невыносимых мучений во время нашей общей ассамблеи весной 1762 г.; я страстно желал, чтобы Господь указал мне истинный путь. Низко согбенный духом перед Господом, я воспринял от Него волю к подчинению тому, чего – как я чувствовал – Он от меня требует. Собравшись с духом, я раздобыл себе шляпу из фетра естественного цвета.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Цит. по: Jung C. G. Paracelsica, р. 92.
2
Jaspers K. La Norme du Jour et la Passion pour la Nuit. Trad. Corbin // Hermes. I, janvier 1938, p. 53.
3
Баадер, Франц Ксавер фон (1765–1841) – нем. философ и теолог. Утверждал согласие веры и разума в рамках теории познания, где субъект и объект взаимно проникают друг в друга. Наряду с Шеллингом считается одним из крупнейших натурфилософов немецкого романтизма. Противник деизма Руссо и кантовской критики. В церковных вопросах отвергал главенство Папы, выступая за демократию в Католической Церкви, которая должна управляться Вселенскими Соборами. – Прим. пер.
4
Папини, Джованни (1871–1956) – итал. писатель. Основатель нескольких журналов в эпоху футуризма. Философ-самоучка и поэт. Здесь цитируется автобиография «Конченый человек» (1912). – Прим. пер.
5
Каросса, Ганс (1878–1956) – нем. писатель. По образованию – врач. Испытал влияние Гёте. Основные темы романов – страх смерти; жизнь как страдание. Роман «Секреты зрелости» (1936). – Прим. пер.
6
Неологизм Башляра. – Прим. пер.
7
Мишо, Анри (1899–1984) – франц. поэт. Цитируется сборник «В стране магии» (1941). – Прим. пер.
8
Флобер продвигался медленнее, но говорил то же самое: «Когда я долго смотрю на камень, животное или картину, я ощущаю, будто вхожу в них».
9
Жакоб, Макс (1876–1941) – франц. поэт и художник-акварелист. Представитель «богемного» авангарда, друг Аполлинера и Пикассо. Цитируется сборник «Рожок игральных костей» (1917). – Прим. пер.
10
Хоксби, Фрэнсис (ум. в 1713) – англ. физик. Сконструировал в 1706 г. электростатическую машину. Усовершенствовал пневматическую машину и продолжил опыты Отто Герике по передаче звука в вакууме. Доказал, что звук распространяется в воде. – Прим. пер.
11
У Лотреамона: «…прекрасен… как встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки» (Лотреамон. Песни Мальдорора. Стихотворения. М, 1988. С. 292. Пер. Н. Мавлевич). Провозглашенное сравнение стало хрестоматийным и эталонным для сюрреалистов и близких к ним направлений. – Прим. пер.
12
Шпиттелер, Карл (1845–1924) – швейц. немецкоязычный писатель. Аристократ-пессимист, испытавший влияние Шопенгауэра. Основные сочинения представляют собой обработку античных мифов. Цитируемый здесь «Прометей и Эпиметей» написан в 1880–1881 гг. Лауреат Нобелевской премии за 1919 г. – Прим. пер.
13
Шекспир У. Гамлет / пер. Б. Пастернака // «Гамлет» в русских переводах. М., 1994. С. 57. – Прим. пер.
14
Clermont É. Laure, p. 28.
15
Жоффруа, Этьен Франсуа (1672–1731) – франц. врач и химик. Член Академии наук (1699). В своей работе «Таблица различных отношений, наблюдаемых в химии между различными субстанциями» (1718) сформулировал понятие аффинности. – Прим. пер.
16
Поэт может плохо разбираться в ботанике и написать такой прекрасный стих:
La fleur d’églantier sent ses bourgeons éclore.
Цветок шиповника ощущает, как раскрываются его почки.
(Мюссе. Майская ночь)
17
Пьер-Максим Шюль в статье, с которой мы познакомились лишь во время правки наших гранок, исследует эти грезы и мысли о взаимовложении (Journal de Psychologie, 1947, no. 2).
18
Гейзенберг, Вернер Карл (1901–1976) – нем. физик. Сформулировал принцип, согласно которому невозможно одновременно наблюдать и измерять скорость и положение квантового объекта. – Прим. пер.
19
Richter J.-P. La Vie de Fixlein. Trad., p. 230.
20
Тцара, Тристан (1896–1963), наст. имя Самуэль Розеншток – франц. поэт, драматург и эссеист. В 1916 г. в Цюрихе создал литературную группировку дадаистов. – Прим. пер.
21
Tzara T. L’Antitête. Le Nain dans son Cornet, p. 44.
22
Ibid. Альфред Жарри* находит абсолютную формулу лилипутских галлюцинаций в главе под названием «Фостролль меньше Фостролля».
Однажды доктор Фостролль… захотел стать меньше самого себя и решил исследовать одну из стихий… избрав образец малости, он уменьшился до классических размеров клеща и путешествовал по капустному листу, не обращая внимания на коллег-клещей и увеличенные предметы до тех пор, пока не встретился с Водой.
*Жарри, Альфред (1873–1907) – франц. писатель. Автор гротескных романов, среди которых цитируемый здесь «Деяния и мнения доктора Фостролля» (1898). Автор знаменитого цикла пьес о короле Юбю. Создатель так называемой патафизики – «науки о воображаемом решении проблемы». – Прим. пер.
23
В устричной раковине Франсис Понж** видит даже «Ангкорский храм»*** (Le Parti Pris des Choses, p. 54).
**Понж, Франсис (1899–1988) – франц. поэт. Основная цель – ответить на «вызов, который вещи бросают языку». Несмотря на формальную близость к сюрреалистам, предпочитал позицию стороннего наблюдателя, избегая в творчестве личных переживаний и даже метафор. Цитируется сборник «Приняв сторону вещей» (1942); русск. пер. «На стороне вещей» (М., 2000). – Прим. пер.
***Ангкорский храм, Ангкор Ват – храм в Камбодже (XII в.). Считается наиболее совершенным памятником кхмерского искусства. Первоначально был посвящен Вишну; в XV в. стал буддийским святилищем. – Прим. пер.
24
Любич-Милош де, Оскар-Владислав (1877–1939) – франц. писатель литовского происхождения; один из любимых авторов Г. Башляра. Автор двух книг, толкующих Апокалипсис. – Прим. пер.
25
Langlois Ch. V. L’Image du Monde. III, p. 179.
Ланглуа, Шарль Виктор (1863–1929) – франц. историк. Профессор палеографии и истории Средних веков в Сорбонне. Один из основоположников позитивистского метода в истории. Вместе с Шарлем Сеньобосом написал в 1897 г. «Введение в изучение истории», по которому учились сторонники «новых методов» в медиевистике, в том числе и в России (O. A. Добиаш-Рождественская). – Прим. пер.
26
Кокто, Жан (1889–1963) – франц. писатель и кинематографист, а также книжный иллюстратор, создатель балетных костюмов и декоратор часовен. Здесь цитируется его ранний поэтический сборник «Церковное пение» (1923), отдельные стихотворения из которого представлены в русск. переводе в сборнике «Петух и Арлекин» (СПб., 2000). – Прим. пер.
27
Флориан, Жан Пьер Клари де (1755–1794) – франц. писатель. Писал знаменитые пасторали, а также песни, исторические романы в духе XVII в., арлекинады для Итальянского театра. Сборник басен издан в 1792 г. – Прим. пер.
28
Жамм, Франсис (1868–1938) – франц. поэт. Автор многочисленных «деревенских» стихов; наивный певец «католического возрождения». – Прим. пер.
29
Тэн, Ипполит Адольф (1828–1893) – франц. философ и историк. Автор знаменитой позитивистской «Философии искусства» (1882). Образцом для наук о духе, по мнению Тэна, должен служить биологический метод Линнея и Дарвина. Здесь цитируется работа, написанная в 1855 г. – Прим. пер.
30
Аналогичным образом можно отыскать два способа пить вино, если прочесть строки Андре Френо* диалектически, оживляя каждый из двух цветов.
Le rouge des gros vin bleus.
Краснота ярко-синих вин.
(Soleil irréductible, 14 juillet)
Так где же здесь субстанция – в характеризующей вино красноте или же в его темных глубинах?
*Френо, Андре (1907–1993) – франц. поэт. Для его творчества характерен апофеоз молчания, отказа, «ничто». – Прим. пер.
31
Одиберти, Жак (1899–1965) – франц. писатель; поэт и драматург. Отличается необузданным «барочным» экспериментаторством в области языка. В отличие от творчества Ионеско и Беккета, алхимия слова у Одиберти не утверждает абсурд, а способствует лучшему познанию человека. – Прим. пер.
32
См. Sartre J.-P. L’Être et le Néant, p. 691.
33
Пьеса Г. Ибсена (1886). – Прим. пер.
34
Бурж, Элемир (1852–1925) – франц. писатель. Испытал влияние Малларме и Вагнера. Автор исторических романов. В метафизической драме «Корабль» (1904–1922) Прометей стремится спасти человечество, но, не найдя с ним общего языка, садится на корабль «Арго» ради поисков более совершенного мира. – Прим. пер.
35
Буске, Жоэ (1897–1950) – франц. поэт, тяжело раненный в битве при Вайи в 1918 г. и оставшийся на всю жизнь прикованным к постели. Его стихи отмечены печатью инициации, в которой мистика смешана с грезами. Осн. сборники: «Перевод с языка молчания» (1939), «Письма к золотой рыбке» (1967). – Прим. пер.
36
Parain В. Recherches sur la Nature et les Fonctions du Langage, p. 71.
37
Sartre J.-P. L’Homme ligoté // Messages. II, 1944.
38
Ренар, Жюль (1864–1910) – франц. писатель. – Прим. пер.
39
Анаксагор (500–428) – греч. философ. Открыл собственную философскую школу в Афинах. Автор трактата «О природе», от которого сохранились фрагменты. Считал, что «материя» состоит из бесконечного количества бесконечно делимых элементов, так называемых гомеомерий, «зародышей вещей». Выше материи ставил разум (нус), который представлял себе как более легкую и тонкую материю. Считается одним из первых механистических материалистов. – Прим. пер.
40
Гильвик, Эжен (1907–1997) – франц. поэт. Для него характерна минималистская поэзия, описывающая предметы материального мира. Г. Башляр упоминает сборники «Исполнительный лист» (1977) и «Из земли и воды» (1942). – Прим. пер.



