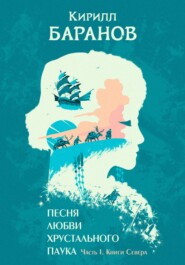скачать книгу бесплатно
– Ооютам неинтересна музыка, – сказал он. – Что-то можно найти в городе, но вряд ли вы отыщете инструменты в такой глуши.
– Что ж вы как демоны, – развел руками Сардан. – Принесли бы хоть веник.
Шаман покачал головой, но всё же что-то сказал толпившимся в дверях, и те рванули было выполнять поручения, но Сардан добавил:
– И пусть принесут еще что-нибудь металлическое, вроде ваших привесок. Ножи, стрелы.
Шаман перевел, и минут через пятнадцать у ног Сардана лежала гора старого, ржавого хлама. Ооюты делали посуду из дерева, коры и глины, а отдавать годное оружие музыканту им было жалко, поэтому они натащили в комнату обломки старых ножей, разбитые цепи, кольца, куски наконечников для стрел. Как и предсказывал Устыыр, в деревне не нашлось ни одного музыкального инструмента, за исключением потрескавшейся доски, поперек которой неравномерно натянуты были струны из непонятного материала. Строй инструмента Сардану показался совсем странным, и он решил, что струны прицепили абы как. Мало того, перестроить инструмент можно было только разломав замысловатые колки.
Еще кто-то принес изогнутый варган с двумя язычками, но Сардан не умел на таком играть и отложил его подальше.
Он жалел уже, что полез в эту авантюру не подумав дважды, но нужно было хотя бы попытаться помочь ребенку. Иначе, он опасался, немой укор несчастной матери раздавит его сердце совсем.
Музыкант потребовал снять с больной шкуры, потому что они могут поранить тело, если оно начнет непроизвольно дергаться, а после попросил шамана выпихнуть народ на улицу. Наконец он уселся у лавки и занялся опытами – сначала последовательно перебрал струны на доске пальцами, потом ногтями, потом гнутыми железяками, звенел, тер, постукивал по дереву и постоянно наблюдал за тем, как реагирует на это больная.
Ашаяти вместе с остальными некоторое время наблюдала за происходящим с улицы через волосяную сетку на окне, а потом вспомнила, что давно не ела – желудок уже стонал о помощи. Девушка оглянулась и подошла к женщинам, зачем-то переливавшим молоко из кувшинов – туда и обратно. Ашаяти попросила чего-нибудь поесть, выпить, показала жестами процесс поглощения пищи, чавкнула, пожевала, но ее так и не поняли. Ооютские женщины глядели на нее с плохо скрываемыми улыбками и без конца что-то тараторили на своем языке, как будто соревновались в остротах по поводу внешнего вида чужестранки – на Ашаяти были яркие матараджанские штаны из цветастой ткани и сапоги с цветочным орнаментом, сильно перекрикивавшие бледные ооютские одежды из шкур и кожи.
Ашаяти разозлилась и пошла по деревне искать еду, по пути отпинала какую-то странную свинью с хоботом, позаглядывала в ведра и миски у дверей и под окнами, надолго задержалась у дурманящего бидсэха, алкоголя из прокисшего молока каарзымов, прошла мимо мастерской, где два ооюта из бересты делали посуду, повертелась возле сушившихся на открытом лабазе трав и перекувыркнулась, когда напоролась за углом на гадко чадящий дымокур, и, после всех приключений, отыскала курятник. Ашаяти переступила высокий порог, стукнулась о низкий потолок макушкой и кое-как разглядела силуэты перепуганных куриц. Те нерешительно закудахтали. Ашаяти пошарила рукой и спугнула одну, птица развыступалась, и тотчас зашелся криком весь курятник, полетели перья, а мимо лица Ашаяти промелькнул бешеный петух. Домашние птицы Ооюта отличались громадными когтями, тусклыми, хилыми перьями и злобным нравом. Ашаяти впопыхах схватила несколько яиц, отбилась локтем от сердитой наседки и выскочила наружу.
А там на нее сразу кинулся пес – мелкий, ростом до коленей. Шерсть запоздавшего к драке защитника курятника перемята была как борода бывалого забулдыги, комьями висела грязь. Собака, несмотря на смехотворные размеры, разоралась на всю деревню, но тут на нее шикнул кто-то из толпы наблюдавших за музыкантом, и пес сконфужено умолк. Ашаяти злорадно усмехнулась и зашагала обратно к окну. Собака увязалась следом и всё присматривалась непристойным взглядом к ее икрам. Девушка замахнулась на пса ногой, а тот извернулся и укусил ее за пятку. Ашаяти скрипнула, зашипела, выругалась беззвучно, чтобы не привлекать внимания к своему позору, и посмотрела на собаку так свирепо, как получилось. Животное отнеслось к порицанию пренебрежительно, и Ашаяти ничего не оставалось, как с обидой отвернуться к окну. Ветер игрался с наполовину прикрытыми ставнями.
Сардан же всё крутил непонятный самодельный инструмент, пытал его и так, и эдак, водил лезвием ножа по струнам и в центре, и у краев, тер их одновременно металлом и пальцами, дергал струны и ловил их дребезжание единственной в деревне железной ложкой, подкладывал медные пластины – и никакого результата. Только раз, перебирая издаваемые инструментом звуки, он увидел, как рука ребенка вздрогнула, но развить успех не получилось.
Музыкант выпрямился, облизал губы и уставился на инструмент.
– Не получается, – сказал он шаману, примостившемуся на лавке в противоположном углу. – Нужно еще что-то, но я не знаю – что.
Сардан удрученно осмотрел комнату в поисках подсказок и увидел в окне высасывающую куриное яйцо Ашаяти. Та перехватила взгляд, захлебнулась и закашлялась. Сардан задумчиво хмыкнул.
– Вот что, – сказал он шаману, – попросите, пожалуйста, принести немного жира. Я заметил, ооюты едят его не закусывая, поэтому, думаю, где-нибудь сыщется бочонок.
Когда принесли жир, Сардан аккуратно, чтобы не заляпать лишнего, смазал им струны. Потом долго и брезгливо вытирал пальцы, принюхивался, потом вытирал опять и с кислой гримасой принюхивался снова. Наконец, собравшись с силами, он заиграл те звуки, которые уже заставили дрогнуть руку больной.
И вдруг она закричала!
Вопль раздался такой истошный, да так внезапно, что музыкант едва не выронил инструмент. Шаман подскочил на лавке, а в комнату, вскрыв дверь и сорвав над ней полог, ворвались толпой озверелые ооюты и набросились на музыканта, чтобы хоть чуточку его порвать.
– Святые падишахи! – вскричал Сардан. – Устыыр, уймите их отсюда прочь!
Встревоженный не меньше остальных шаман разом пришел в себя и что-то прикрикнул – и народ мигом вынесло наружу. Дверь тихонько закрылась обратно. Устыыр прислонился к стене, сжал изо всех сил кулаки и отвернулся.
Сардан пробурчал что-то, размял пальцы покалеченной руки пальцами здоровой и продолжил игру. Девочка больше не кричала, но стонала, ворочалась и заламывала руки. Музыкант внимательно наблюдал за ней и постепенно приноравливался, менял звуки, ритм, предугадывая богатым опытом то, что произойдет дальше.
Но произошло неожиданное.
Больная села на постели, приподняла веки и посмотрела на музыканта ужасающими черными глазами. Сардан замер, и инструмент замолчал.
Стало тихо. Устыыр чуть дышал на скрипучей лавке, а в окне оцепенела не только Ашаяти, но и всё норовивший подцепить ее за ногу пес.
Целую минуту, наверное, смотрел Сардан в бесконечно черные глаза девочки, из которых потихоньку вытекала ей на щеки пузырящаяся жидкость, падала на плечи, бедра, постель.
Не отрывая взгляда от больной, Сардан нащупал лежавший у коленей нож, и шаман насупился, решил, что музыкант перепугался и сейчас наделает бед. Сардан медленно поднял нож к инструменту и резко ударил лезвием по струнам. Раздался злой визг, режущий диссонантный скрип, от которого зашевелились угли в печи и пыль под лавками. Из глазниц больной вывалились черные глаза, шлепнулись ей на колени. Девочка содрогнулась и молча упала на постель.
В наступившей снова тишине слышен был беспокойный шепот снаружи. Музыкант с трудом поднялся, нашел у лавки тряпку и сгреб в нее густую массу, вытекшую из глаз больной.
– Устыыр, перевяжите ей глаза, пожалуйста, – попросил он.
Пока напряженный шаман дрожащими руками искал платок, Сардан разворошил в печи угли и швырнул в них тряпку с жижей. Она зашипела тихонько, а потом внезапно затрещала, как буря в лесу. В печи хлопнуло, и комнату заполнил колючий дым. Сардан поспешил растворить наполовину закрытые ставни окна, где стояла Ашаяти. Дым выпрыгнул ей в лицо. Ашаяти отпрянула от неожиданности и, взвизгнув, шлепнулась на спину.
Шаман закашлялся, кое-как замотал голову ребенка платком и пошел помогать музыканту. Они распахнули остальные ставни и после этого открыли дверь. Сардан поднял дрожащую девочку на руки и вынес наружу, где ее перехватил то ли отец, то ли еще какой-то родственник. Впрочем, тут все были родственниками.
Дым валил из окон вязкими клубами, шипела в печи жижа, а шаман только теперь вышел наружу. Задумчивый и безучастный, он хотел проскользнуть мимо толпы, но его задержали тянущиеся отовсюду руки.
Устыыр остановился.
– Люди говорят о ребенке, – угрюмо перевел он музыканту. – Будет ли она живой?
– Скажите, пускай полежит несколько дней, – Сардан тер слезившиеся от дыма глаза. – Повязку можно снять где-то через неделю, раньше не надо. Всё будет хорошо, видеть она будет, но, конечно, хуже, чем раньше.
Шаман проворчал что-то, недовольный тем, что музыкант опять заговорил о времени, перевел кое-как и снова попытался вырваться из окружения благодарного народа, но народ снова робко полез к нему руками. Все скопом что-то быстро-быстро заговорили.
– Спросите у них, не было ли каких несчастий в последние дни, – попросил обделенный вниманием Сардан. – Может быть, кто-то в деревне умер, или заболел. Ну или влюбился, тоже несчастье порой.
– Они говорят много слов, но мало мыслей, – устало сказал Устыыр. – Не знают сегодня и завтра. Они говорят обо всем, они от всего в восторге, но этот мир им неинтересен. Жизнь для них туман. Она шагает мимо. Им это неинтересно. Если их соседа съест могус, они скажут, что ничего не случилось, как трава на ветру ходит. Если расколются небеса, они скажут – ничего интересного, как полог завесить.
Сардан ничего не понял, покачал головой и привалился к забору. Из-за дома наконец вышла Ашаяти, опять вся в грязи, а следом за ней крутился и подпрыгивал пес, охранявший курятник. Он снова попробовал цапнуть девушку за ногу, но она отскочила уже чисто машинально, даже внимания на зверя толком не обратила.
– Ну и ну, это еще что за кавалер? – сдвинул брови Сардан.
– Достал меня этот пес, – пожаловалась Ашаяти.
– Принял тебя за отбившегося от стада каарзыма, наверное. Пастух же.
Ашаяти вздохнула с тонким «у-у», посмотрела на музыканта исподлобья и размахнулась было ударить в пах, но пес опередил ее – подошел к Сардану и как ни в чем не бывало укусил за ногу. Музыкант вскрикнул и отскочил в сторону. Ашаяти ехидно усмехнулась и протянула руку – погладить мохнатого союзника, – но теперь только увидела, что вся ее одежда вымазана в грязи самого разного происхождения. Она покрутилась на месте, поискала что-то взглядом, но заметила родителей больной девочки, прижимавших к груди ребенка, и нервно отвернулась. У всех один взгляд. Все ждут, но не все дожидаются.
– Спросите у них, где тут река, – попросила она отчаявшегося найти уединение шамана.
– Там, – раздраженно махнул рукой Устыыр, – за насыпью.
– Пойду сполосну одежду, – сообщила Ашаяти и двинулась к реке через холм, но шаман окликнул ее:
– Идите по тропе в обход, через рощу!
– А что так? – удивился Сардан.
Шаман перевел вопрос деревенским, и те заговорили все разом. Устыыр насторожился, слушал долго, сосредоточенно, задал несколько вопросов, и, когда гомон утих, повернулся к музыканту.
– На холме опасно, оказывается. Там стояло древнее шаманское сэргэ. Недавно кто-то его разбил.
6
Реки Паахыт и Сокын брали свои истоки где-то далеко на крайнем севере, куда не удалось добраться еще ни одному ооюту. Спускаясь потихоньку к югу, змеясь под вечными льдами, обегая скалы и тихо журча в сырых лесах, эти далекие друг от друга реки сливались вместе и давали жизнь Эрэе, чьи бесчисленные притоки бежали в Матараджан и достигали там залива Самдаран. В месте слияния, в новом истоке, в молчаливой степи шумел и волновался один из немногих городов необъятного Ооюта – Эрээсин.
Всего каких-то двести лет назад в разобщенных, слабых, но свободных улусах начала понемногу формироваться могучая сила. Ослепленные жаждой наживы, власти и крови мелкие вожди бросились расширять свои владения, подчинять соседей, порабощать и уничтожать, грабить и обогащаться. Быстро росли горы золота, и всё больше становилось стражи, чтобы эти горы охранять. И тогда в Ооюте появились первые города.
Строились они сумбурно и походили на непомерно ожиревшие деревни. Эрээсин, жавшийся к холодной реке, по сути своей был всего одним домом, огромнейшим деревянным замком, кривым, скошенным местами, без единой планировки, хаотичным и запутанным. Так случилось когда-то давно, что к построенному здесь сараю кому-то из соседей вздумалось приделать сбоку туалет, другому сверху спальню, третьем позади – хотон, со зверями, и всё это абы как, абы где, ломая кровли и несущие стены, из-за чего конструкция гнулась и морщилась, как гниющий фрукт. Так маленький сараишка, облепленный тысячами спален, чуланов, трактиров, складов, мастерских, коридоров и рынков, стал похож на разросшуюся грибную колонию. Каждый новый горожанин, которому не находилось места в скособоченных стенах города, пристраивал себе дом где придется – на крыше, или у подножия, а иногда и просто в стене, вроде балкона. Высокие башни, беспорядочно натыканные тут и там, косились и присматривались к земле, подпертые толстенными балками, стены выгибались и трещали, а город жил себе и гудел.
Но время не стоит на месте. С развитием торговли между Ооютом и странами юга на север поползли бесчисленные караваны, а купцы и трудяги, искавшие заработок в далеких краях, стали сооружать вокруг Эрээсина (да и других городов) привычные для себя дома – с черепичными крышами, с резными ставнями, с цветочными двориками и лесенками к веранде. И так вокруг несуразного деревянного замка, обильно вымазанного негорючей черной смолой, завились и закудрявились в степи разномастные цветастые улочки, нестройные, суетливые, одна непохожая на другую. А еще дальше к горизонту простирались поля, совсем уж нехарактерные для Ооюта, жители которого с давних пор занимались лишь охотой, животноводством и ремеслами и почти ничего не знали о крестьянском, как правило, подневольном труде – ведь все городские поля так или иначе принадлежали местным толстосумам. Новоявленные ооютские крестьяне, никогда не знавшие трудового угнетения, ненадолго задерживались в городах и быстро возвращались в родные улусы, где их не хлестали плетьми и где не отбирали заработанное ленивые хозяева.
Солнечные лучи текли среди ржи, сияли розоватыми сапфирами на реке, взбирались по стенам домов, скользили по крышам. Нескладный черный замок в свете утра казался немного оливковым, с голубоватыми пятнами. По улицам бродили сонные люди и зевающие собаки, серебрилась на одуванчиках роса, когда Джэйгэ вышел на городскую дорогу – чумазый, уставший, в полуразвалившейся от ночного похода по реке обуви. Он миновал поля, где с утра пораньше горбатились и кряхтели крестьяне, протащился возле лавок чужеземных купцов, потягивавшихся вяло, зябнувших от северных холодов и вспоминавших далекую родину, прошагал неуверенно мимо трактира, где обычно останавливались почтальоны, и сразу направился в замок. Внутри он пересек широкую залу, свернул в коридор, потом во второй, взобрался по узенькой лестнице, прошел еще несколько коридоров и лестниц разной ширины и протиснулся в полуоткрытую дверь почтовой конторки. Не успел он рухнуть без сил на лавку в переполненной измученным народом приемной местного чиновника, как его оглушил не такой и громкий, но резкий, колючий и злой разговор из кабинета начальника.
– Эйээх, не мни шапку, парень! – звенел самодовольный голос. – Шапку тебе тойон дал! Помнешь ее, замучишь – возмещать заставлю. Ковер уже замазал мне, нокоо! Ковер большой, много джагыр стоил. Из Великой Нимы чужеземными лошадьми везли. Отойди с него в преисподнюю, парень. Еще дальше, туда, прочь навсегда! – зашаркали отрывисто шаги. – Аяахлы, нокоо, ковра совсем не видишь?! В стену уходи! Кишками земными весь пол перемазал! Тебе, парень, пять зим каарзымов по Ооюту водить, чтобы такой ковер купить. И то не купишь. У тебя ни сукровицы, ни крови нет. Сколько ты опоздал?
– Полтора часа, тойон, – голос почтальона доносился как будто из закрытого ящика, он замешкался робко и поспешно добавил: – Но счетовод взял метку и принял работу.
Почта Ооюта выстроена была по примеру Матараджанской, и потому работники, с горем пополам, учились хоть сколько-нибудь тонко чувствовать время. Некоторые уже даже слышали о секундах.
– Еще говори.
– Больше нечего.
– Ты опоздал, парень?
– На полтора часа, тойон.
– Где ходили твои ноги?
– Что?
– Почем ты опоздал, нокоо?! Где так долго ходили твои ноги?
– Тойон, я три месяца вел каарзымов…
– Эйээх, нокоо, какая длинная история хочет изо рта твоего вылезти! Не пускай ее к нам! Ты нам уже весь Ооют перетоптал, оказывается?! Откуда ты каарзымов три месяца вел? Из Ургылура?
– Нет…
– Из Ланхрааса может? Расслабленный ты парень, нокоо. Не спешишь двигать ноги!
– Но ведь три месяца…
– Эйээх, это сколько? Три месяца – это вся твоя жизнь. Жизни тебе мало, нокоо! Вас тойон жалеет, как брошенную волками падаль, терпит вас, как будто золотые слезы вы. За три месяца и улитка проползет!
– Тойон, мои ноги ступали быстро, как быстро мчится бегущий от волка заяц, как падающий к добыче ястреб. Каарзымы не знали отдыха, а я спал раз в три…
– Эйээх, парень, да ты спал!? Для чего ты проснулся, парень? Я смотрю на твои ноги и думаю – а есть ли они у тебя?
– Что? Есть…
– Зачем они тебе?
– Я же спешил скорее ветра, тойон, разве можно быстрее?!
– Много слов из тебя сыпется, нокоо, да все на пол падают. Тебе было время?
– Было, той…
– Ты опоздал?
– На полтора часа, то…
– Плати взыскание, – послышался какой-то звон, это нерадивому почтальону вручили штрафную метку.
– Тойон…
– Следующие пять походов будешь ходить бесплатно.
– Но ведь это до конца зимы, тойон! Что я буду есть?
– Ситимэх, задиристый парень! Ты ел в этой жизни достаточно! Следующий.
– Тойон, да как же?!..
– Следующий!
Почтальона вытолкали в приемную. Он скользнул мутным взглядом по Джэйгэ, по вжавшейся в стены толпе, но вряд ли увидел хоть что-то.
Лишь ближе к вечеру, после многочисленных перерывов, очередь дошла до Джэйгэ. В кабинете начальника было тускло, дымные синеватые свечи бросали мертвецкие тени на лица, а солнечные лучи как будто избегали окна. Стены были завешаны чужеземными коврами с орнаментами пестрых расцветок, а между ними висели декоративные мечи и ножи. На покрытой шкурами лавке в углу развалился мужчина лет под шестьдесят, с опухшим, дряблым лицом. Он слез и пошел курить у окна, когда Джэйгэ переступил порог. За столом прятался второй – маленький, нос пятачком, с подрагивающими беспрерывно губами, будто их сносило ветром. Этот крутил в руках золотую чужеземную монету и беспрерывно нервически дергался. Ростом он с трудом доставал Джэйгэ до груди, а сидя – не дотягивал и до пояса, но высокомерный взгляд его смотрел не просто сверху, а откуда-то из облаков, отчего вошедший почувствовал себя тараканом, попавшимся на глаза слону, и хоть слон был карликовым, но всё же был слоном.
Джэйгэ стиснул в руках шапку и сбивчиво рассказал о своих злоключениях – говорил он тихо, надеялся в глубине души, что его не расслышат, и всё обойдется. Но стоило упомянуть о потерянных каарзымах, как вертевший монету замер, перестали истерически дергаться губы, а куривший вдохнул дыма из трубки и выпустил его в окно после того, как Джэйгэ закончил рассказ. Наступила мучительная тишина. Джэйгэ нащупал в шапке отделение, где хранились его семь золотых джагыр, сдавил монеты в кулаке.
Коротышка за столом потихоньку оживал.
– Двести ары, парень, – ледяным тоном сказал чиновник, и Джэйгэ едва не рухнул на пол от грома его голоса.
Одна золотая джагыр стоила пять ары. За год походов на почте положено было десять ары, или две джагыр, но из-за поборов получить столько получалось не всегда. Каждая ары в свою очередь стоила шестьдесят две кынгы, и такое непонятное число позволяло чиновникам и купцам вдребезги обсчитывать нищих трудяг, большинство из которых с горем пополам умели считать до десяти. Впрочем, деньги в Ооюте были в ходу больше всего в городах, а деревенские и кочевники обменивались товарами и вместо золотых монет охотнее брали шкуры и наконечники для стрел. Но корыстолюбивые купцы и в этом случае всегда находили способ оставить честного человека ни с чем.
– Двести ары?.. – повторил Джэйгэ, точно хотел отшвырнуть эти слова от себя, вернуть их отправителю.
– Двести ары счетоводу в соседней конторе. Всё с этим, – отрезал чиновник и махнул рукой, давая понять, что разговор окончен.
– Откуда у меня столько, тойон?! Я столько ары в жизни не видел!.. – голос Джэйгэ дрожал, становился то громче, то тише.
– И не увидишь, – с усмешкой заявил чиновник.
– Жалкие почтовые каарзымы стоят не больше двух монет…
– Ситимэх, нокоо! – взбесился коротышка. – Двести ары и уходи дорогой в преисподнюю, парень! Нет любви к моим словам? Думаешь слова мои я не говорю? Большим тойоном ты себя ощутил, парень! На Баакын Хаасана в Верхнем Мире снизу свысока смотришь, нокоо! На князьца Туулурдана орлом глядишь, а человек ты – заяц! Сейчас придет в эту комнату счетовод, пускай скажет цену почтовому каарзыму! Не чувствуешь моих слов? Думаешь, что я сказал – я не говорил? Пускай придет счетовод! Но не жди от него любви к твоему пути, парень! Счетовод любит цифры, и его цифры не похожи на мои цифры. Целовать тебя счетовод не станет, в нем нет моей доброты, в нем мертвое всё. Цифры мертвые в нем. И ему ты дашь не двести ары, ему ты дашь тысячу ары! Я прощал тебя, парень. А цифры тебя не простят. И за каарзымов, и за опоздание, и за слова твои липкие – ни за что тебя не простят… Нет в вас, люди Среднего Мира, благодарности! Нет жалости к страданиям. Сколько сделал я ради вас, сколько вынес, скольким пожертвовал, – он с тоской посмотрел на полупустой стакан с темным чужестранным вином, стоявший на краю стола. – Жизнь моя в этом окне задувает… Нет больше радости. Неблагодарные люди. За жертву жизни моей одни упреки. Сколько страданий за горстку монет!