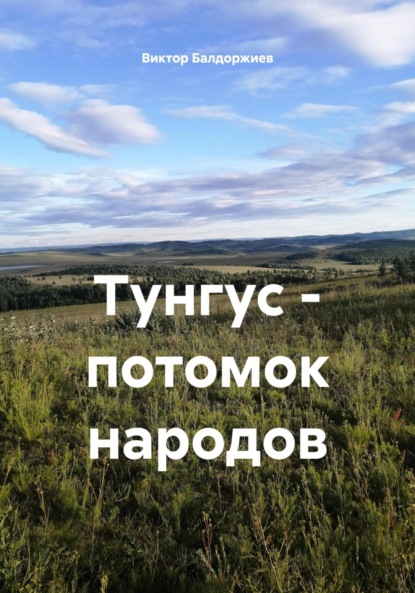
Полная версия:
Тунгус – потомок народов
Но лучшие учителя – собственные ощущения. Они не обманут. А потому позвольте на время оставить в стороне подготовленные вопросы и готовые ответы на них, положиться на свои ощущения и внутренние географические реперы (вехи), по которым я ориентируюсь с юных лет. Исходя из них, полагаю, что эвенки, живущие в северной тайге тесно связаны и смешиваются с якутами, а хамниганы, населяющие таёжные и лесостепные участки, находящиеся ближе к железной дороге, связаны с хори-бурятами, русскими и представителями других народов, потревоживших тайгу. К последней группе людей и относятся герой и персонажи нашей книги. Зыбкое пространство, в котором проживали и проживают шилкинские хамниганы, соседствует, в основном, по северным границам обитания, с эвенками и якутами, а по южным границам – с хори-бурятами и русскими… Это обстоятельство влияет на анатомию, телосложение и внешний облик не только отдельного человека, но и, что естественно, целых семей и родов. Тем не менее, хамниганская суть от такого смешения никуда не исчезает, даже, если кто-то пытается скрыть свои корни, они всё равно проявляются в характере, поступках, речах, цвете глаз или характерной походке… Раньше я уже сказал, что Номоконовы могут быть людьми разных национальностей, но в душе всегда ощущают себя хамниганами.
Заметно также, что вплоть до 1960-х годов шилкинские хамниганы мигрировали внутри своего, локального, пространства, иногда выходя далеко за его пределы, потомки их «шагнули» ещё дальше, а современные хамниганы уже легко пересекают границы стран и континентов.
Но сначала мы проследим незримую, ломаную, линию, на которой находились и всё ещё находятся Нижний Стан – Делюн – Нарын Талача (Верхняя, Средняя, Нижняя), где жили предки Андрея Азарянского, о которых рассказали его близкие родственники и сородичи.
Кто и откуда?
О селе Нижний Стан, откуда родом прадед Андрея и дед его матери Зинаиды Семёновны по мужской линии Василий Данилович Номоконов, читатели знают, в основном, из биографии легендарного снайпера Семёна Даниловича Номоконова, о котором написана книга «Трубка снайпера», поставлен фильм «Тунгус». Как уже известно, Василий Данилович и Семён Данилович – родные братья. Кстати, сына своего, отца Зинаиды Семёновны и деда Андрея, Василий Данилович назвал Семёном в честь своего брата. Андрей же, как нам уже уже известно, во время службы, взял себе позывной «Тунгус».
Нижний Стан находится в Тунгокоченском районе Забайкальского края, а до 1983 года относился к Шилкинскому району. В Энциклопедии Забайкалья, которому в некоторых случаях, я доверяю больше, чем Википедии, значится: «Нижний Стан, село на юге Тунгокоченского района (до 1983 в составе Шилкинского района), центр сельского самоуправления, расположено в 74 км к юго-востоку от села Верх-Усугли. В состав Нижне-Станского округа входят также сёла Бутиха, Сухайтуй, Торга, Халтуй, Цагакшино. Возникновение Нижнего Стана связано с работой старательских артелей, поселения которых обычно называли станами. С 1964 года село – центральная усадьба совхоза «Воскресеновский» мясомолочной специализации, в 1992 хозяйство передано ОАО «Рудник Дарасун», затем реорганизовано в агрофирму «Дарасунская», которая в 2001 реорганизована в ООО «Агроголд». В 2002 население – 695 человек. Имеются: средняя школа, детский сад, Дом творчества, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. В Нижнем Стане жил снайпер С. Д. Номоконов, его именем в селе названа улица».
А где родился?
О коренных жителях Нижнего Стана и ближайших сёл, эвенках или хамниганах энциклопедии, конечно, ничего не рассказывают, ибо составители не имеют о них представлений. Материалы, написанные по шаблонам, гуляют в периодике и сети много лет и сегодня не представляют никакой ценности, но кое-какие факты в них есть.
Теперь о селе Делюн, который нам также известен из биографии Семёна Даниловича Номоконова, ибо иногда авторы пишут, что он родился и там. Но энциклопедии выводят читателя на ныне существующее село Делюн Сретенского района, который, кстати, раньше тоже входил в Шилкинский район. В тексте об этом селе в Энциклопедии Забайкалья С. Д. Номоконов не упоминается. Причина простая: таких сёл было два. Но того Делюна, где жил Семён Данилович Номоконов давно нет. Осталось только место, где стояло село, там в наши дни совершают молебны потомки Василия Даниловича, Семёна Даниловича и остальных Номоконовых, а также других жителей Делюна. Место находится в километрах трёх от исчезающего хамниганского села Ульяновка и в километрах тридцати от Нижнего Стана. Основным репером можно назвать село Богомягково, стоящее на трассе «Амур», откуда до Делюна не более десяти-двенадцати километров…
Кстати, напомню: Делюн с монгольских диалектов переводится как Селезёнка. Таких названий в Забайкалье известно несколько, раньше, возможно, было больше. Например, Делюн-Болдок. Следовательно: попал на место с названием Делюн – ищи очертание местности, похожее на селезёнку овцы или косули. Не ошибёшься. Такие контуры на месте исчезнувшего села Делюн есть.
Конечно, способности сравнивать и видеть подобную аналогию современные люди не имеют, ибо они родились и живут в совсем других условиях и обстоятельствах, тем более – возможности охотиться или ухаживать за животными у них нет. От этого довольно много ошибок у краеведов и историков, ищущих исторические места. У них нет и не может быть настоящего бурятского или тунгусского видения, каковые были, скажем, у Дерсу Узала, Семёна Номоконова или Тогона Санжиева. То есть эти историки и этнографы, исследователи и краеведы никогда и ничего толком не определят и не найдут.
На мой взгляд современные потомки коренных народов должны возвращаться в места предков. Например, брать участки, паи, строить коттеджи, заниматься сельским хозяйством, туризмом, создавать центры культур.
Но продолжим нашу тему…
Нижний Стан и Делюн связаны в истории шилкинских хамниган, особенно в роду Номоконовых, самым непосредственным образом.
У Данилы Номоконова было три сына: Иван (Павел), Семён и Василий. (О них, также их сёстрах, в конце книги будет отдельная глава).
Иван и Василий были женаты на хори-бурятках. Василий Данилович Номоконов взял в жёны хори-бурятку Хандаму Дугарову, судьба которой мало известна потомкам. Она была, возможно, родом из читинских или борзинских бурят, близких к шилкинским хамниганам. По словам её внуков бабушка Хандама умерла в 1965 году от болезни в посёлке Агинское, в доме своего сына Семёна Номоконова. Она – прабабушка Андрея Азарянского и многих Номоконовых, имеющих на сегодня разные, в основном, русские и украинские фамилии и, конечно, обличья, хотя имена у некоторых хори-бурятские. Например, Аюр…
Василий Данилович и Хандама Дугарова жили в Нижнем Стане, Делюне, позже переехали в Нарын Талача. С этими тремя сёлами связаны судьбы супругов и их детей. Сын Василия Даниловича Номоконова и Хандамы Дугаровой – Семён Васильевич Номоконов.
Проследим родословную по женской линии. В Делюне жила Марфа Михайловна Сундуева, вышедшая замуж за китайца Ван-Гана, которого переиначили на русский лад Иваном, получилось – Иван Ванган. Жили они в землянке, под сопкой Делюна, было у них пятеро детей. два сына и три девочки: Сергей, Николай, Ольга, Лидия, Галина, записанные и как Сундуевы, и как Ванганы. Позже некоторые из них жили и работали в колхозе имени Ленина известного села Зугалай Агинского Бурятского округа.
Одну из них, Ольгу Ивановну Ванган, взял за себя Семён Васильевич Номоконов. Он – 1938 года рождения, она – 1940. Познакомились будущие супруги уже в селе Зугалай, Агинского Бурятского округа, куда в 1950-1960-х годах переезжали из своих сёл шилкинские хамниганы. Ехали, конечно, известной, тогда ещё не асфальтированной, дорогой, ведущей из Могойтуя через Зугалай и Хара-Шибирь на Шилку. Старожилы говорят, что первым в Зугалай переехал Михаил (Мисаил) Сундуев, отец Марфы Михайловны Ванган (Сундуевой), прадед по материнской линии детей Семёна Васильевича Номоконова и Ольги Ивановны Номоконовой (Ванган, Сундуевой).
Прославленный самобытностью, самодеятельностью, достижениями своих тружеников, спортсменов, Зугалай стал ещё более знаменит, когда там поселился Семён Данилович Номоконов. Со временем Зугалай стал Родиной многих потомков шилкинских хамниган, пришедших из Нижнего Стана, Делюна и других деревень. Шилкинские хамниганы работали на всех участках зугалайского колхоза, содействуя его славе и процветанию. Они были трактористами, комбайнерами, шоферами, чабанами, скотниками, доярками, разнорабочими – на всех ручных и тяжёлых работах, на которых стояло любое советское хозяйство.
В повествовании о Нижнем Стане и Делюне прозвучали четыре кровно связанные фамилии: Номоконовы, Ванганы, Дугаровы, Сундуевы. Конечно, и они, в свою очередь имеют кровную связь со множеством других семей, о которых, по мере возможности, будет сказано в этой книге. Все они предки и родственники Андрея Викторовича Азарянского и его сыновей Даниила и Ярослава, живущих со своей матерью Светланой в Улан-Удэ на момент написания книги.
Забайкальская география и родословная представителей шилкинских хамниган – Номоконовых-Азарянских теперь более или менее известна, а далее, надеюсь, будет только уточняться и размножаться.
В Агинском округе. ХХ век
Известные сведения об Ольге Ивановне Сундуевой (Ванган), вышедшей замуж за Семёна Васильевича Номоконова, говорят, что шилкинские хамниганы перекочёвывали, в основном, в хамниганские и хоринские сёла. Номоконовы жили в Нижнем Стане, Делюне, Зугалае, Нарын Талаче, Нарасуне, Агинском. Говорили на русском и родном, хамниганском, языках, а с годами – на агинском диалекте бурятского языка. Но, замечу, вместе с переселением шилкинских хамниган обогащался и Агинский Бурятский округ, который на сегодня можно назвать средоточием многих представителей монгольских и тунгусо-маньчжурских племён и родов, что самым положительным образом влияет на современное развитие округа и звучание его в информационном пространстве страны.
Во все времена люди искали близкое им общество, лучшие места для себя и своих потомков. Например, супруги Номоконовы – Семён Васильевич и Ольга Ивановна жили и трудились в Амитхаше, где глава семьи работал в РТС, потом переехали в Нарын Талача, оттуда – в Нарасун, а потом, в 1973 году, вернулись обратно в Агинское, где заняли половину двухквартирного дома на улице Дорожной и обосновались в центре округа окончательно. Потом они получили квартиру по улице Комсомольская.
Семён Васильевич трудился в автотранспортном предприятии сварщиком, а Ольга Ивановна была на разных работах в аэропорту, находившемся на краю посёлка. Ещё живы старожилы, которые помнят этот аэродром. Возникает он и в моей памяти. В те годы в Агинское летали самолёты. Я помню, как в 1975 году, демобилизовавшись из армии и прибыв в Читу, летел на АН-2 в Нижний Цасучей, а самолёт садился в Агинском, высаживал или брал пассажиров. Билет стоил три-шесть рублей. Такая была жизнь.
Ольга Ивановна позже работала в столовой, техничкой райисполкома, жила заботами о муже и детях.
В Агинском дети Номоконовых, мал мала меньше, поочередно, пошли в школу. Зинаида с 1973 года стала учиться во 2-й школе посёлка.
Никаких национальных различий тогда не могло быть. Агинское отличалось от других районных центров только тем, что имело ещё статус окружного центра, где заметно выделялась значительная численность бурят. А в остальном посёлок мало чем отличался от своих соседей – Акши, Нижнего Цасучея. Повсюду звучала русская речь. АСШ №2, директором которой много лет работал Жигмит Тумунович Тумунов и преподавали замечательные учителя, по умолчанию считалась русской.
В те годы классы в школах были большими, например, одноклассников Зинаиды Номоконовой – 40 человек! Классным руководителем Зинаиды была Зоя Васильевна Петрова. Класс наполовину состоял из детей бурятской национальности. Выделялись дети смешанных браков, которые по национальности были или считались русскими, бурятами, армянами, татарами, башкирами. Позже многие из них стали известными в округе и области людьми. Преподавательский состав этой школы всегда отличался серьёзной образованностью и знаниями, культурой и дисциплиной. Об этом помнят, помнили и будут помнить…
Среда и язык эпохи
Как и большинство шилкинских хамниган конца второй половины ХХ века, жившие в Агинском Номоконовы немного говорила на эвенкийском, но не знала, да и не могла знать бурятского языка. В советское время это даже молчаливо поощрялось обществом и начальством, создающим нового человека, который не должен был знать своей реальной истории и культуры, традиций и языка. Помню, как в наше село Новая Заря, приезжали чиновники от культуры (буряты!) и требовали убрать панно, где были изображены методом чеканки животные, олицетворяющие двенадцать времён года. Они же требовали прекратить празднование Сагаалгана. Вне округа праздновали, в округе – нет. Общество 1970-х годов уже было полностью отлучено от своей истории и не могло иметь других представлений и понятий, кроме тех, что преподавали в детских садах, школах, техникумах, профтехучилищах, вузах.
Питательная среда советского общества не могла входить в реакцию ни с какой иной средой и знаниями, которые оказывались совершенно другими. Абсолютно политизированная страна воспитывала или «лепила» человека с первых дней его рождения по образу и подобию совершенно нового в эволюции человека, каковым он представлялся в трудах марксистско-ленинских теоретиков. Поскольку в СССР преобладал славянский или русский тип человека с его постоянно меняющейся историей, то он и послужил образцом для всех, а потому был возвышен над всеми остальными народами, что в дальнейшем не лучшим образом отразилось на его судьбе…
Мне рассказывали случай конца 1950-х годов, выразительно характеризующий бурятское общество ХХ века: председатель Ононского райисполкома того времени Намсарай Бадмажабэ, человек ещё помнивший учителей прошлого, посоветовал выучить бурятские слова молодому русскому доктору с тем, чтобы ему было легче общаться с населением, где жили буряты. Тот выучил и в подходящий момент обратился на бурятском двум буряткам-медсёстрам, только что прибывшим из училища, которые тут же, нервно и бойко, возразили на русском языке: «Говорите с нами на русском, мы – культурные бурятки…»
Все вышеописанные моменты возникли в памяти автора в связи с исследованием темы шилкинских хамниган, знакомством с Номоконовыми и изучением короткой и яркой жизни Андрея Азарянского. Ведь именно его трагическая судьба потребовала углубиться в историю хамниган, вспомнить о трепетном национальном вопросе и родном языке жителей Агинского Бурятского округа.
Дома у Номоконовых, возможно, и в других семьях шилкинских хамниган, иногда говорили на родном языке своей группы, который сегодня считается одним из древнейших диалектов монгольского языка. (Не язык ли это монголов, живших в Эргунэ-кун?) Звучала в семьях и хори-бурятская речь. Но Номоконовы и их сородичи не различали, где хамниганское или хоринское слово, тем более, звучавшие в потоке русской речи. Так появлялся буржик (по аналогии с украинско-русским суржиком), который часто можно услышать в Байкальском регионе, особенно в республике Бурятия и национальных округах. Понимание различий языков приходит позже, с возрастом и жизненным опытом.
Разговор некоторых жителей посёлка зачастую, даже в наши дни, перемешан словами разных, исторически и географически близких друг к другу национальностей. Сегодня многие потомки старых шилкинских хамниган, переселившихся из Нижнего Стана или Делюна, хорошо понимают бурятскую речь, слабо – родную, хамниганскую, но не говорят на этих языках. Все говорят на русском языке, знание которого на очень хорошем, даже глубинном, уровне, недостижимом для многих жителей Агинского Бурятского округа, ибо это знание, породившее отличные, от древних, традиции впитывалось шилкинскими хамниганами несколько веков, в других условиях, и значительно раньше, чем в национальных образованиях, где компактно проживают хори-буряты, до наших дней пытающиеся сохранить национальную идентичность.
В советский период истории знание русского языка было для всех обязательным и повсеместным, без него закрывались все двери. Многие буряты БурАССР и национальных округов щеголяли пренебрежением к родному и знанием русского языка. Для всего общества, особенно некоторых его руководителей, потеря родного языка, обычаев и традиций, ревностное стремление овладеть русским языком было чуть ли не социалистическим соревнованием. Такое положение считалось обычным и не подлежало какому-то осуждению с чьей-либо стороны. Тем более, что к середине 1980-х годов можно было считать: советский человек, с рождения воспитываемый и подпираемый мощными поддерживающими представлениями о режиме: октябрята, пионерия, комсомол, партия – уже реальность, он создан и активно созидает будущее. Жизненный путь каждого такого человека был определён и ясен, хотя и случались отклонения.
В таких условиях жили не только шилкинские хамниганы, но и многие большие и малые народы СССР. Как они могли сохранить идентичность, особенно малые народы?
Об эвенках, хамниганах, бурятах и других национальностях люди того времени, а также и Номоконовы, особо не размышляли, хотя иногда, в газетах и журналах, рассказывали о дружбе народов, пятнадцати республиках великой страны, а в 1982 году проводилась всесоюзная кампания «В семьей единой», посвящённая 60-летию СССР, когда «сверху» был дан старт странному, на взгляд современного человека, движению «60-летию СССР – 60 ударных недель!» Подобных кампаний в те времена было довольно много, впрочем, как и активистов-комсомольцев, ставших позднее бандитами, олигархами, начальниками, чиновниками, буддистами, шаманами, националистами, демократами. Ковчег, где всякой твари по паре, не может быть однородным.
После окончания 8 класса Зинаида Номоконова отправилась в посёлок Первомайский, поступила в профтехучилище (ГПТУ-17), где в 1984 году получила рабочую специальность «штукатур-маляр», ставшей большим подспорьем и основным средством заработка на всю жизнь.
Эта же специальность определила всю её дальнейшую судьбу… Она была и осталась, как многие Номоконовы, простым и трудолюбивым, нравственно и физически сильным человеком, который всегда был и будет, как говорится, солью земли, вопреки всем обстоятельствам и условиям.
Таким же воспитывала своего сына Андрея.
Братья и сёстры
Прерывая хронологию повествования, необходимо сказать, что у Семёна Васильевича и Ольги Ивановны Номоконовых родились восемь детей, трое сыновей и пятеро дочерей:
– Наталья – 1964 года рождения, в замужестве за Сахаровым, эвенком;
– Марина – 1965 года, в замужестве за Барановым, русским;
– Зинаида – 1966 года, вышла замуж за Азарянского, украинца;
– Алексей – 1968 года, женился на Кореневой Ирине Александровне, с которой развёлся. Позднее женился на Снежко Дарье Ивановне;
– Галина – 1970 года, в замужестве за Авдеенко, русским;
– Павел – 1973 года, не был женат;
– Югана (дочь) – 1978 года;
– Артём – 1981 года рождения, жена Пляскина Светлана Николаевна.
О том, что и на этих этапах родословной у Номоконовых снова случилось великое смешение национальностей, а какие будут в дальнейшем, можно даже не заикаться. Но одно несомненно – каждый представитель этого «ковчега», никогда не забывал и не забывает, что он хамниган-бурят, хори-бурят, свойства которых выражены не только в физическом облике, но и в характере.
И всё же: проследить за передвижениями и разветвлениями первых двух поколений этого большого рода шилкинских хамниган можно без особых сложностей и напряжения, ибо вся хлопотливая, порой очень тяжкая, житейская суета местного, локального, характера. Сначала Нижний Стан – Делюн, далее – на территории Шилкинского района, потом – ближних районов, Зугалай – Нарын Талача – Нарасун – Агинское. Ментальное и физическое изменения незначительные.
Судьбы и родословные меняются круто и необратимо, расширяя пространства, увеличивая объёмы, обогащая качество жизни и количество связей, только вместе с грандиозными переменами на планете, в государстве, в обществе. Известные из них – движения хунну или гуннов, тюрков, великое переселение народов в IV-VIII веках на Востоке и Европе, завоевания монголов в средневековье, а также – открытия, эпидемии, революции, бунты, реформы, строительство. Например – Великой китайской стены, Панамского канала, Транссибирской магистрали… И такие перемены уже близились в СССР начала и середины 1980-годов, хотя никто даже в мыслях не мог предположить их. Как бы и что бы человек не предполагал, но, как издавна говорят в народе, всё и всегда располагает Бог. Человек – песчинка в океане событий. Но кого это успокаивает и кто с этим согласится, радуясь прибавлению или оплакивая погибших на полях мировой или гражданской войны, в межнациональных конфликтах и, так называемых, горячих точках? Кто видит серьёзные изменения в родословных и сложных процессах времени?
Родословная Номоконовых и тысяч других людей круто изменилась в связи с началом грандиозного по масштабам строительства Байкало-Амурской магистрали в конце второй половины ХХ века.
История строительства 4324 километров железной дороги, протянувшейся по тайге и горам Восточной Сибири и Дальнего Востока России создала новое поколение людей, которых можно назвать, потомками народов и наследием последних лет СССР.
Один из них – Андрей Азарянский.
БАМ. Юктали – начало истока
Юктали – вот ещё одно эвенкийское слово, прочно вошедшее в лексикон Номоконовых и шилкинских хамниган с 1984 года. На этот раз это слово звучит далеко от места проживания названных в предыдущих текстах людей, на севере, где протянута Байкало-Амурская магистраль. Там, как свежий и чистейший снег, холодящий лицо и ладони, звучат и тают таинственные названия – Тында, Усть-Нюкжа, Юктали, а в переводе – место, где пасут оленей, дымное кочевье, ручей. И это только упрощённый перевод эвенкийских слов, за которыми – живописные панорамы прекрасного Севера, где преобладают осенние краски и белый цвет, навсегда полонившие души многих и многих первопроходцев, прибывших сюда из самых разных частей и республик СССР в 1970-1980-х годах, когда возник новый, большой и подвижный, ковчег, где соединялись судьбы тысяч молодых людей самых разных народов и национальностей. И рождалось новое общество людей. Но кто тогда думал об этом?
Шла великая стройка и всюду звучало – БАМ!
Здесь, где на заснеженных просторах и непроходимой тайге тундры были редкие стойбища оленеводов и охотников, паслись многочисленные стада одомашненных и диких оленей, а начиная с первой четверти ХХ века, появились геологи и изыскатели, за ними пригнали тысячи заключённых, разбили их на отряды, возникли спецпоселения и лагеря, строительные участки. Тогда и появились звучные слова БАМ, бамовец или бамлаговец, означавшие в то время – лагерник, бедолага. С 1933 по 1938 год там погибло более 40 тысяч заключённых
С 1932 по 1953 год в этих местах действовал Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь. Согласно приказу ОГПУ от 10 ноября 1932 года на БАМ должны были направляться заключённые в хорошем физическом состоянии, но на деле было не совсем так, а на месте – совершенно не так, как и положено во всём лагере социализма, где камера всегда смотрит в мир. Сегодня по архивным данным можно узнать о «чрезвычайно тяжёлых» бытовых условиях в шестом Нюкжинском отделении БАМЛага. Это как раз то место, недалеко от которого в 1980-х годах возник посёлок Юктали – седьмая станция от Тынды, в шести километрах от Усть-Нюкжи. Остатки лагеря в тайге долго удивляли новых и любознательных строителей своим странным и пугающим мановением, будто там всё ещё ходили и хотели что-то сказать живым бесплотные призраки давно умерших людей, бродящие меж деревьями…
На Севере всегда встречались образованные и сильные личности. Трудности и сложности невозможно преодолеть без знаний. Были среди первопроходцев очень интересные люди оставившие неизгладимый, след в истории. В 1933 году вместе с тысячами заключённый привезли в БАМлаг известного философа и священника Павла Флоренского. Учёный работал в Свободном, на опытной мерзлотной станции. Читателям будет интересно знать, что там, в северной тайге, в невероятных условиях, он написал поэму об эвенкийском, мальчике Оро, что в переводе означает Олень. Человек великого духа и внутренней свободы Павел Флоренский всей душой любил этих смелых и свободных людей, рыцарей тайги, охотников и оленеводов, обживших суровые места. Но и его жизнь вызывает не меньшее уважение: философ и священник отказался снять сан и был за это расстрелян… Сколько таких судеб в истории страны! Преклоняясь перед их памятью, приведу для очередного фона книги несколько строк из этой удивительной поэмы:



